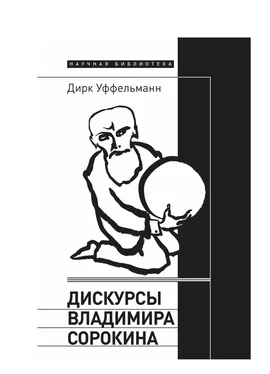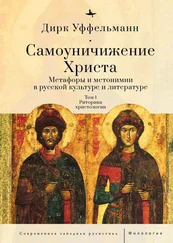Это справедливо в отношении как «Трилогии», так и метадистопии 2006 года. Сорокин лишь меняет объекты своих метадискурсов, в числе которых оказываются эзотерика и политическая антиутопия. Однако основной вектор его творчества остается прежним: он продолжает воспроизводить другие дискурсы и имитировать чужую речь. Попрощавшись с соцреализмом, Сорокин в «Трилогии» концептуально переосмыслил вновь проснувшийся в постсоветском обществе интерес к эзотерике. В «Дне опричника» он придерживается той же стратегии, только предметом концептуализации теперь становятся сатирические дискурсы о неоавторитарных тенденциях в путинскую эпоху и подражание многочисленным постсоветским историческим романам-антиутопиям 1 127 — деталь, которую отметил также и Андрей Немзер, давний критик Сорокина 1128.
Упрощенные интерпретации, основанные на буквальном политическом прочтении в духе «„отображения действительности" в мейнстримной литературе» отступают на второй план перед еще одним буквалистским толкованием: восприятием литературной метадистопии Сорокина как самоисполняющегося пророчества, которое находит подтверждение в политической и социальной реальности лишь после публикации. В 2008 году
Керстин Хольм предложила новый взгляд на повесть как «программу» последовавших за ней политических убийств 1129. По мнению Александра Архангельского, метафора опричнины предвосхитила нарастающую закрытость российского общества после вторжения в украинский Донбасс 1130, а Теодор Тротман заметил, что «функцию опричников в реальной жизни взяли на себя [Александр] Залдостанов [по прозвищу „Хирург"] и [пропутинский байкерский клуб] „Ночные волки" <...>» 1131.
Последняя — и самая проблематичная — политическая трактовка сорокинского «Опричника» выразилась в перформативном усвоении апологии тирании, звучащей из уст Комяги. Сторонники репрессивного режима воспринимали книгу Сорокина как самую настоящую утопию и руководство к дальнейшим репрессивным действиям 1132. В 2008 году Михаил Леонтьев, один из авторов книги «Крепость Россия», открыл в Москве модный ресторан «Опричник» 1133. Когда участники арт-группы «Война», устраивающей политические перформансы, заварили вход в ресторан металлическими листами, круг взаимных влияний и заимствований замкнулся: если Сорокин в «Опричнике» изобразил тяготеющее к закрытости общество, то такие люди, как Леонтьев, переняли его метафору в качестве маркетингового хода, а активисты из группы «Война», заварив дверь ресторана, повторно материализовали предложенную Карлом Поппером классическую метафору закрытого общества. Благодаря подобным коммерческим переосмыслениям метафоры опричника художественный текст Сорокина стал частью повседневной культуры.
В 2008 году вышел сиквел «Дня опричника» — сборник «Сахарный Кремль», состоящий из пятнадцати рассказов. В нем представлена еще одна картина дистопического «Нового Средневековья», на этот раз датированная 23 октября 2028 года. В центре «Сахарного Кремля» — ужасающая нищета и каждодневные страдания населения, а действие снова происходит в деспотическом государстве недалекого будущего, где иссякли нефть и газі 134. Односторонний монолог палача дополнен точками зрения занимающих подчиненное положение жертві 135. Сахарный Кремль, давший название сборнику, не только декоммунизированный фетиш, перекрашенный, как и в «Опричнике», в белый цвет, но и леденец, бесплатно раздаваемый гражданам для приема внутрь 1136 как пропаганда и почитаемый ее покорными потребителями как святыня 1137. Контраст между сакрализацией власти и бедностью, в которой живут люди при репрессивном режиме, «развенчивает созданный Комягой миф о [могуществе и процветании репрессивной] России» 1138. Дискурс тоталитаризма снова выступает здесь как метадискурс, а не как историческое «отображение действительности» путинизма до 2006 года.
Глава 11. «Метель» и автоаллюзии метаклассика
Сорокин никогда не останавливался перед использованием банальных стереотипов, связанных с Россией 1139, будь то водка и соленые огурцы в Hochzeitsreise, деревня в книге «В глубь России» 1140 или сибирский лед в «Трилогии»1141. Когда в конце марта 2010 года повесть Сорокина «Метель» вышла в карманном (13 на 17 см) 303-страничном издании, центральная для нее метафора снежной бури заставила некоторых читателей думать, что Сорокин в очередной раз обратился к дискурсам о русской зиме 1142. Однако налицо по меньшей мере одно существенное отличие: если льду, упавшему вместе с Тунгусским метеоритом, приписывались живительные чудодейственные свойства, то метель, давшая название повести, явно губительна для всех персонажей.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу