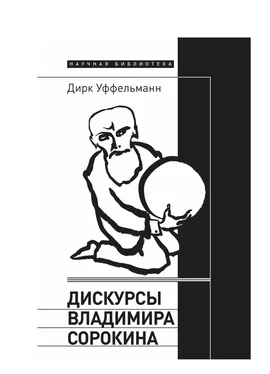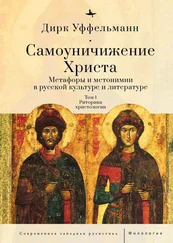К тому же гендерное распределение ролей оказывается обманчивым и отклоняется от первоначальной тургеневской схемы: Роман не «лишний человек». Олицетворением этого типа скорее можно назвать Зою Красновскую, в которую сначала влюблен герой. Зое чужда Россия и ее народ, она изнемогает от скуки463 и ненависти к России. Роман, наоборот, патетически отвергает Зою с наивным славянофильским восклицанием: «Я люблю Россию»464. Взаимные чувства Романа и Татьяны тоже противоречат пессимистическому взгляду Тургенева на романтическую влюбленность: Тургенев никогда бы не допустил возможности счастливой любви между образованным жителем столицы и провинциалкой — и уж тем паче никогда не сделал бы их соучастниками массового убийства, отдав им на растерзание заодно и дорогую ему поэтику любовного романа.
Славянофильская риторика Романа в равной мере не отвечает убеждениям западника Тургенева, зато близка к идеализации сельской жизни, свойственной Левину в «Анне Карениной»:
Гнил я в городе, в столице. А здесь, мне кажется, буду жить. По-настоящему. <...> буду заниматься живописью и хозяйством. Земледелием, пчеловодством465.
Вне зависимости от того, восходит ли конкретный мотив, идеологическая тенденция, гендерная модель поведения или стилистический прием к Тургеневу, Достоевскому или Толстому, искушенному читателю русской классики XIX века все в «Романе» кажется до боли знакомым. Сведение сельской жизни, отношений между поколениями и повседневного общения к стереотипам накладывает отпечаток даже на имена героев: Татьяна отсылает к пушкинскому «милому идеалу», а Роман с его топором — к Родиону Раскольникову.
На протяжении всей первой части и двух первых глав второй, то есть в общей сложности четырнадцати глав, внимание читателя рассеивается на бесчисленные поверхностные светские разговоры — политические и философские рассуждения всегда быстро обрываются, и повествователь не возвращается ни к одной из затронутых тем — и на описания повседневного досуга, например верховой езды и охоты, настоящую «энциклопедию общеизвестных реалий русской литературы»466. Все здесь выглядит взаимозаменяемым467, и ничто не рождает интригу, конфликт или подлинный накал страстей. В восьмой главе второй части пространно описывается стереотипная сельская русская свадьба с затяжными тостами, поросенком, пением крестьянок, плясками, дракой между мужиками, прыжками через костер, играми для новобрачных, передачей венка невесты и наконец удалением молодоженов в свою комнату, где они открывают свадебные подарки468, которые никак нельзя назвать примечательными. Не узнавая ничего нового или хоть сколько-нибудь значимого, читатель испытывает все большее раздражение. Сами герои намекают на эту предсказуемость, осмысляя весь церемониал как исконно русский469. Огромное количество бесполезной информации470 нагоняет на читателя скуку, так что чтение постепенно превращается в «подвиг терпения»471.
Однако попробуем представить себе непредубежденного читателя, незнакомого с другими текстами Сорокина: он не спешит поскорее долистать до конца книги, но и пока не догадывается, что со страницы 354 появится нечто, нарушающее привычный графический облик романа. С точки зрения такого воображаемого читателя отдельные фрагменты «Романа» не только обладают этнографическим и фольклорным, «референциальным»472 смыслом, но даже способны вызвать мимолетное сопереживание. Эмоциональная вовлеченность читателя возможна начиная с третьей главы второй части. Размышляя о своей молодой возлюбленной Зое, Роман оказывается свидетелем того, как волк растерзал лосенка473. Внезапно мы наблюдаем не только всплеск сильных эмоций, но и нечто неожиданное: не волк бросается на Романа, а наоборот. Он преследует волка и принуждает его к смертельной схватке, в конце концов ударяя зверя ножом и много раз восклицая: «Убил... я убил тебя, убил...»474. Клюгин, перевязывающий раны от волчьих укусов на руках Романа, выражает изумление читателя перед происшествием, нарушившим монотонное течение сельской жизни: «Мда... любопытно. Для нашей вялотекущей жизни это прямо подвиг... »475.
Но вскоре ирония снова берет верх: Клюгин высмеивает патетические заявления Романа об «автономной морали», присущей любому человеку, и о том, что «сострадание есть в каждом»476, когда герой пытается таким образом объяснить, почему бросился на волка. Отрицание доктором культуры, в которой он видит лишь прикрытие для буйства страстей, восходит к типичному для Тургенева шопенгауэровскому разграничению воли и представления: Бах, Бетховен, Рафаэль, — все это ширмы, крышки, под которыми клокочет libido, tanatos (sic), жажда убийства477.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу