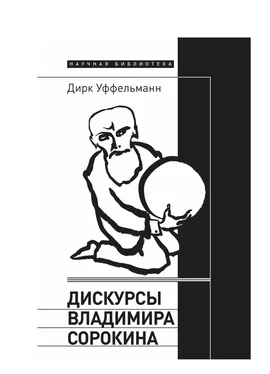Даже вне советского контекста те, у кого жестокие сюжеты Сорокина вызывают более или менее явное отторжение, не улавливают их метаперформативного аспекта, полагая, что такие описания призваны лишь «шокировать»522 или «бессмысленно разрушать»523. Даже авторы, расположенные к Сорокину, не могут удержаться от того, чтобы не назвать его «жестоким талантом»524 или enfant terribleSZS. При этом исследователи, сосредоточенные на сюжете, либо недооценивают, либо полностью игнорируют заложенные в тексте призывы к насилию и перформативные сюжетные повороты, мотивирующие жестокость, осквернение и непристойность у раннего Сорокина. В отличие от «Нормы» (см. третью главу) или «Голубого сала» (см. восьмую главу), в «Романе» такого рода «команды» звучат в тексте прямо, они особо выделены или повторяются526. Главным поворотным моментом в «Романе» становится фраза «Замахнулся — руби!». Осквернение икон внутренностями жертв на страницах 382-384 предваряет металитературное удвоение смысла: «Роман положил топор на Евангелие»527. В «Романе» Сорокин даже прозрачно намекает, что пословицы — например, связанные со все той же охотой на немецкий лад, — могут буквально материализоваться в практические действия: Известную охотничью поговорку «Стрелять легче, когда в ягдташе тяжелее», он понимал буквально <...>528 Вне зависимости от этой метамотивации жестокости перформативной речью «Роман», безусловно, выделяется на фоне других произведений Сорокина массовостью убийств и их нарастающей скоростью. В количественном, хотя, пожалуй, и не в качественном отношении, он превосходит даже «Сердца четырех» — роман, претендующий на самую отвратительную в мировой литературе единичную сцену насилия (достаточно хотя бы отдаленно представить себе детальное описание того, как «ебут мозги», когда во всех подробностях описано проникновение полового органа в тщательно вскрытый хирургическим способом череп — с очевидным летальным исходом для жертвы). Невероятная жестокость сюжетов этих романов объясняет, почему Виктор Ерофеев назвал Владимира Сорокина «ведущим монстром» несоветской «новой русской литературы», которая сотрясает «гуманистические» нормы, насаждая бодлеровские «цветы зла»529. Однако нарушение Сорокиным разнообразных табу — связанных с политикой, сексом, экскрементами, — а также металингвистическая и метахудожественная функции этой стратегии никоим образом не сводятся к моральному злу, о котором говорит Ерофеев.
Глава 6. «Месяц в Дахау»: на перекрестке двух тоталитарных режимов
Начиная с 1990-х годов, после «Романа» (1985-1989), восходящего к традициям классической русской литературы XIX века, Сорокин в своих текстах еще больше отдаляется от советского контекста, решительно подводя черту под интересом к соцреализму530. Из произведений 1990-х годов отчасти уходят даже российские реалии; в них, как и в «досоветском» «Романе», Сорокин обращается к историческому прошлому, на этот раз — к общей истории двух тоталитарных режимов: в Германии 1933-1945 годов и в СССР эпохи позднего сталинизма и вплоть до 1953 года.
Со времен Второй мировой войны советским авторам трудно было однозначно высказываться о Германии. Скандальная попытка двух тоталитарных государств заключить союз, закрепленная пактом Молотова — Риббентропа 23 августа 1939 года и сделавшая возможным совместный раздел Польши в начале Второй мировой войны, после 1945 года оказалась болезненной темой для советской политики памяти. Кроме того, искусственно созданный образ единого советского народа не позволял признать тот факт, что в 1941-1945 годах на оккупированных советских территориях жертвами нацистов были прежде всего евреи. Документальные свидетельства о геноциде советских евреев в годы Холокоста, например составленную Ильей Эренбургом и Василием Гроссманом «Черную книгу» (1946-1948), опубликовать не удалось. Вместе с тем до 1953 года цензура запрещала писать о тоталитарном характере советского строя, поэтому в позднесоветскую эпоху сложилась и прочно закрепилась традиция изображать нацистский режим так, чтобы в нем угадывался намек на советский тоталитаризм. В послевоенные годы народное сознание двусмысленно воспринимало сведения и художественные произведения о нацистской Германии, в том числе книги Юлиана Семенова и многосерийный фильм Татьяны Лиозновой о работающем в СД советском разведчике Штирлице, который стал персонажем многочисленных анекдотов. Сорокин, работая над сценарием для документального фильма-коллажа Татьяны Диденко и Александра Шамайского «Безумный Фриц» (1994), тоже отдал дань этой традиции531.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу