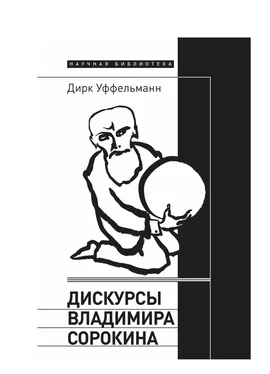Когда Румянцев добивается от нее чего хочет, у Марины их половой акт ассоциируется с моментом, когда ее совратил собственный отец325, то есть с первым пережитым ею опытом патриархального насилия. Поэтому пережитый оргазм знаменует собой ее готовность вновь подчиниться отцовскому авторитету326 и вернуться к пассивному поведению. Если Зигмунд Фрейд рассматривал гетеросексуальный оргазм как эволюцию женской сексуальности от клиторальной активности, свойственной маленькой девочке, в направлении вагинальной пассивности327, Сорокин, обыгрывая этот тезис с постфрейдистских позиций, явно не разделяет его. Он с усмешкой изображает «падение в счастье»328, переживаемое нонконформисткой. Здесь сам по себе оргазм превращается в отречение от индивидуальности, «спасение от индивидуации»329. Сюжет романа наводит на мысль, что позднесоветская культура, в которой не предвидится избавления от модели покорности, выражает себя в стремлении находить в этой покорности удовольствие — черта, в романе выступающая ключевым признаком эпохи застоя.
Марина подчиняется гетеросексуальному половому акту, как подчиняется авторитетуЗЗО. Ее покорность перед проникновением этого авторитета побуждает ее направлять свою агрессию на саму себя, требует от нее самодисциплины и самоунижения. Марина, неоднократно подвергавшаяся насилию со стороны мужчин, в момент переворота обращает жестокость внешних сил на себя и испытывает приступ пассивности, возвращаясь к состоянию страдания, которое она переживала в детстве. Это приводит ее к отказу от самостоятельности и к деэмансипации (которую Сорокин развенчивает, а не защищает, как ошибочно полагает Халина Янашек-ИваничковаЗЗІ). Уже тем же утром после оргазма под звуки радио Марина на кухне ведет себя, как домохозяйка в патриархальной семье, «послушно» обслуживая Румянцева332.
Однако патриархальная гендерная психология не единственный авторитет, заставляющий Марину в романе в конечном счете подчиниться отеческой воле партии. Сорокин отсылает и к еще одной традиции в русской культуре, в которой унижение трактуется как нечто положительное в социальном отношении, — к христианствуЗЗЗ. Хотя формально диссидентка Марина не принадлежит к Русской православной церкви, ей присуща некая туманная религиозность334, а среди других вещей в запертом ящике ее письменного стола хранятся Библия, четки, псалтырь и молитвослов335. В минуту нравственного кризиса Марина по памяти читает длинную покаянную молитвуЗЗб.
Безотчетно пытаясь проложить путь через советскую юдоль скорби, Марина обращается к разным источникам. Когда на некоторое время политикорелигиозные чаяния выливаются в мечту о возвращении Солженицына из изгнания, в этом расплывчатом образе Мессии угадываются: 1) Христос, 2) простонародные уборы Толстого, 3) почвеннический пафос поздних славянофилов, 4) православная Пасха, 5) языческий символизм восходящего солнца (который одновременно входит в число советских штампов и псевдорелигиозный характер которого разоблачил Булатов337): Открывается овальная дверь и в темном проеме показывается ЛИЦО. <...> в этих мудрых, мужественных глазах великого человека, отдавшего всего себя служению России, стоят слезы.
ОН <...> выходит в том самом тулупчике, прижимая к груди мешочек с горстью земли русской.
<...> Он там наверху, залитый лучами восходящего солнца, поднимает тяжелую руку и размашисто медленно крестится, знаменуя Первый День Свободы.
И все вокруг крестятся, целуются, размазывая слезы338. Овальный дверной проем напоминает изображение Христа в мандорле339; нищая крестьянская одежда отсылает к обычаю монахов подражать Христу в бедности; человек, медленно, как во время богослужения, осеняющий себя крестным знамением, исповедует таким образом свою веру во Христа.
По тексту романа рассыпаны и другие отсылки к образу Христа, в том числе к христологическому числу тридцать: действие романа разворачивается, когда Марине тридцать лет340, а тридцатая любовь приходит к ней в тридцатую весну341, то есть примерно в период Пасхи на тридцатом году ее жизни. Во сне Марина слышит тропарь, посвященный безымянному последователю Христа:
От юности Христа возлюбииив,
И легкое иго Его на ся восприяааал еси,
И мнооогими чудесааами прослааави тебе Бог,
Моли спастися душам нааашииим...342
Диссиденты тоже претендовали на подражание Христу; Марина утешает диссидента Митю и восхищается им: «Ты у нас мученик», «Страдалец ты наш»343. Диссидентская речь о христоподобном страдании Руси, как и советский гимн, записана большими буквами:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу