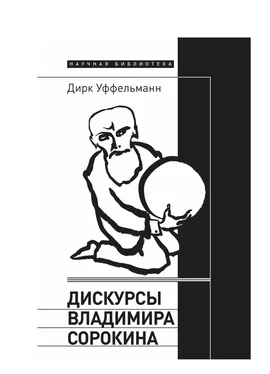Это различие накладывает отпечаток и на двойную структуру романа. Сорокин не разоблачает насилие, скрытое под «внешне безмятежной поверхностью»351, а изображает эту безмятежную поверхность во второй половине романа как прикрытие для насилия и виктимизации и одновременно способ их осуществления352.
После обращения в коммунистическую веру Марина добровольно приучает себя ежедневно вставать в шесть утра353, перенимая у Румянцева самодовольное стремление перевыполнить норму. С этого момента на сцену выходят все клише соцреалистического производственного романа354. Для Марины Румянцев — эталон труженика, напоминающий романтизированный соцреализмом образ забойщика Алексея Стаханова, которому государственная пропаганда приписывала перевыполнение нормы в четырнадцать раз 31 августа 1935 года: «Салют стахановцу»355. Радикально изменившаяся Марина трудится за станком, забыв свои прежние интересы и не замечая, как идет время356. Преклонение соцреализма перед работой на заводе определяет и детский энтузиазм, с каким Марина теперь относится к технике: она упивается «чудесной музыкой машин»357.
Когда Марина устраивается на завод, ей сообщают, что для рабочего за токарным станком норма составляет триста пятьдесят деталей за смену358. На следующих страницах читатель узнает, что Марина сначала выполняет, а затем и перевыполняет эту норму, определяющуюся исключительно количественными показателями: в первый день она вытачивает сто восемнадцать деталей359, потом двести десятьЗбО, триста двадцать четыреЗб!, триста семьдесят одну362, «то есть на 21 деталь больше положенной нормы»363, и наконец четыреста сорок364. Помимо «приобщения к норме», Марина сама вызывается участвовать в оформлении стенгазеты, которая якобы готовится по инициативе рабочих365, и в добровольно-принудительном субботникеЗбб.
Переступив порог завода, Марина отказывается от критического взгляда на советскую действительность. Теперь ее восхищает буквально все: светлое помещение цеха, заводская столовая, женское рабочее общежитие, незатейливый ужин и так далее367. Как в образцовых произведениях соцреализма368, внутри заводской бригады нет антагонистических конфликтов. Это относится и к работающему вместе с Мариной Алексеевой лодырю Золотареву, который раскаивается и которого она успешно приучает к дисциплине и старательной работе. Когда в воскресенье днем Алексеева обличает на улице пьяных, повествователь упоминает лишь благодарность, которую ей выражает милиция369.
Цена, заплаченная Мариной за образцовое подчинение предъявляемым к героине соцреалистического романа требованиям, — отречение от женской гендерной идентичности. В ее рабочем удостоверении токаря значится «расточник» (в мужском роде)370, а товарищи по работе всегда называют ее «другом», а не «подругой»371. Вскоре Марина перестает краситься и теряет интерес к одежде372. Получается, что единственный пережитый Мариной гетеросексуальный оргазм лишь на мгновение наделяет ее гендерной ролью женщины, после чего она вскоре превращается в «безликое и бесполое существо»373. Ее вновь обретенная гетеросексуальность оборачивается
«нулевой сексуальностью», теперь уже в полном соответствии с ханжескими канонами соцреализма374. Бестелесность Марины граничит с механизацией375. Последняя индивидуальная эмоция, выраженная героиней в романе, — радостный возглас, который она издает, осознав, что теперь она обыкновенная «рабочая», член бригады376.
Внутренняя перспектива Марины Алексеевой уступает место официозным речевым актам, таким как вынужденная самокритика Золотарева: «Я полностью и безоговорочно признаю свою вину <...>»377, — или эмоциональные парадоксы, например заявление о любви к советским институтам: «Я тоже испытываю большую любовь к Советской Армии <...>»378. С этого момента говорит уже не Алексеева или другие персонажи, героиня — лишь проводник «языка правды [официоза]»379. Голоса персонажей «становятся жертвами коллективного языка, регламентирующего все интерпретации мира и человеческого существования в нем, отказываясь от ответственности, свободы и собственных суждений в пользу этого языка»380.
По мере того как текст становится все менее читаемым, наше внимание все больше привлекают его формальные аспекты. В частности, читатель видит, что индивидуальность Марины в повествовании сводится к минимуму, он замечает, когда повествователь в последний раз называет ее просто по имени (как это было на протяжении всей «диссидентской» части романа381), когда она в последний раз названа по имени и фамилии382 и, наконец, до какого момента героиню называют только по фамилии383. Затем наше внимание переключается на процесс постепенной утраты романом «романных» качеств: вот в последний раз упоминается вымышленный персонаж384, вот последняя фраза, оформленная как реплика диалога, с тире (пусть даже эти кому-то принадлежащие слова уже звучат как советские новостные сводки385), вот текст в последний раз начинается с красной строки386, после чего следует двадцатисемистраничный абзац отчетов о партийной деятельности, заимствованных из газеты «Правда». Отчеты — и здесь очевиден намеренный комизм — открываются сообщением о явно никому не нужной Коммунистической партии Люксембурга: «Пленум принял решение о созыве очередного, XXIV съезда КПЛ в январе 1984 года»387. Сорокин здесь утрирует свойственную авторам соцреалистических романов манеру вставлять в художественный текст фрагменты партийных документов. Свен Гундлах, прочитавший роман в самиздате задолго до его публикации в России, справедливо заметил, что последние главы «Тридцатой любви Марины» «предназначаются не для чтения, а для взвешивания на руках пачки аккуратно напечатанных страниц»3 8 8.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу