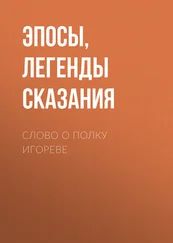Дмитрий Лихачев - Против дилетантизма в изучении «Слова о полку Игореве»
Здесь есть возможность читать онлайн «Дмитрий Лихачев - Против дилетантизма в изучении «Слова о полку Игореве»» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: sci_philology, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Против дилетантизма в изучении «Слова о полку Игореве»
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Против дилетантизма в изучении «Слова о полку Игореве»: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Против дилетантизма в изучении «Слова о полку Игореве»»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Против дилетантизма в изучении «Слова о полку Игореве» — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Против дилетантизма в изучении «Слова о полку Игореве»», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Изменять текст «Слова», как и всякий художественный текст, нельзя на том лишь основании, что предлагаемое изменение лучше всех предлагавшихся учеными ранее. Необходимость любой перестановки в «Слове» должна быть доказана. Но в «Слове» есть несколько мест, которые не могут быть объяснены сколько-нибудь точно. Поэтому из переводов и толкований приходится выбирать то, которое наиболее нейтрально по отношению к художественной системе «Слова», изучать которую все еще нужно.
«Слово о полку Игореве» как художественный памятник нельзя рассматривать в свете наших собственных субъективных представлений о последовательности изложения событий, наших собственных представлений о красоте, хотя последние исследования и дают кое-что для понимания красоты памятника. В последнее время я неоднократно писал о художественной культуре и эстетических представлениях XII в. Пользуюсь возможностью, предоставляемой мне очерками А. Никитина, еще раз коротко сказать о художественной природе «Слова», очевидным образом им не учитываемой.
Очень жаль, что А. Никитин, объявляя себя историком и археологом, с таким пренебрежением относится к литературоведам и филологам. Хороший историк, обращаясь к литературному памятнику, обязан быть литературоведом, как и, имея дело со словесным памятником, — филологом. Так же точно литературовед и филолог во всех случаях обязан быть историком. Наука едина, истина для всех одна.
И если бы А. Никитин обратился к работам литературоведов без всяких предубеждений, то убедился бы, что многие из предполагаемых им «загадок» «Слова» носят мнимый характер и рассеиваются при широком подходе к «Слову» как художественному произведению.
В домонгольский период господствовал в литературе и в других искусствах стиль монументального историзма. Для этого стиля была характерна «эстетика дистанций» — пространственных и исторических. Чтобы быть художественно ценным, любое явление в произведении искусства должно было быть представлено в громадной перспективе, с далекого расстояния — как бы с птичьего полета. Писатели обладали своего рода «ландшафтным зрением». В летописях этого времени сопрягались различные географические точки. Изложение событий перекидывалось из одного княжества в другое, из города в город, и при этом всегда имелась в виду вся громадная перспектива русской истории: каждая летопись начиналась с «Повести временных лет» или с «Начального летописного свода». Ощущение громадности Русской земли характерно и для автобиографии Владимира Мономаха. Сознание огромных просторов типично даже для церковных слов Кирилла Туровского. Одну из своих проповедей Кирилл Туровский начинает так: «Неизмерьна небесная высота, ни испытана преисподняя глубина…». В широкую историческую перспективу вставляется похвала Ярославу Мудрому в «Слове о Законе и Благодати» митрополита Илариона. Летописцы и авторы похвальных слов окружают своих излюбленных героев всесветной славой. Границы, а вместе с тем и слава Русской земли в «Слове о погибели Русской земли» простираются «до угор (венгров. — Д. Л.) и до ляхов, до чахов, от чахов до ятвязи (одно из прибалтийских племен. — Д. Л.), и от ятвязи до литвы, до немець, от немець до корелы…». И так же широки исторические границы времени создания памятника — от Владимира и до князей нынешних. Можно было бы много перечислять примеров и широты видения, и глубоких исторических перспектив, и исторической памяти народа в этом периоде. Все это мною уже сделано и опубликовано.
«Слово о полку Игореве» при всех своих небольших размерах поражает своею монументальностью и исторической широтой. Героем «Слова» является вся Русская земля, и в повествование «Слова» втянуты огромные географические пространства и исторические эпохи. «Слово» охватывает землю от Тмуторокани на Черном море (нет и не может быть сомнений, что в «Слове» говорится о той Тмуторокани на Черном море, о которой повествует и летопись в XI в.!) до Новгорода на севере, от Волги на востоке до Галича на западе. Десятки городов, княжеств и рек захвачены действием «Слова» и создают его титанический фон: Половецкая степь («страна незнаемая»), «синее море», Дон, Донец, Волга, Дунай, Рось, Сула, Стугна, Немига… Обращаясь к русским князьям, автор имеет в виду не только их личную историю, но и их предшественников.
Согласно неизжитым еще в XII в. языческим представлениям, особая роль принадлежит при этом не столько отцам, сколько дедам, родоначальникам. По дедам характеризуются внуки. Вот почему в «Слове» такую большую роль играют обращения к биографическим фактам деда всеславичей Всеслава Полоцкого (Полоцкого, разумеется, а не нивесть какого «Половецкого») и деда ольговичей, к которым принадлежали главные герои «Слова», — Олега Святославича («Гориславича»). Пережитки древнерусского язычества в княжеской среде XII в., сказывающиеся и на политике князей, достаточно отчетливо выяснены в превосходной работе В. Л. Комаровича «Культ Рода и Земли в княжеской среде XII в.». [5] ТОДРЛ, М.; Л., 1960, т. 16, с. 84—104.
В применении к «Слову» я неоднократно об этом уже писал. Далекое прошлое — это как бы фон, на котором разворачиваются события настоящего и создается «историческая глубина», «историческая перспектива», параллельная глубокому «ландшафтному зрению». Эта «историческая перспектива» необходима, с одной стороны, для осознания исторической значительности происходящего при жизни автора, а с другой — для осознания современности как чего-то эстетически ценного, достойного прославления или порицания, увековечивания. Тем самым достигается своеобразная и очень важная в понимании художественных представлений эпохи «историческая монументальность». Князь существует не сам по себе со своими особенностями характера и своими политическими убеждениями — он прежде всего представитель своего рода, своего «племени», «гнезда», он ольгович или всеславич, мономашич, ярославич — он внук деда.
Интервал:
Закладка:
Похожие книги на «Против дилетантизма в изучении «Слова о полку Игореве»»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Против дилетантизма в изучении «Слова о полку Игореве»» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Против дилетантизма в изучении «Слова о полку Игореве»» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.
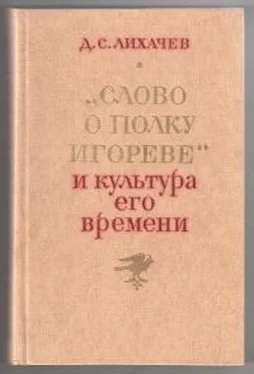



![Игорь Сухих - От «Слова о полку Игореве» до Лермонтова [litres]](/books/430444/igor-suhih-ot-slova-o-polku-igoreve-do-lermonto-thumb.webp)