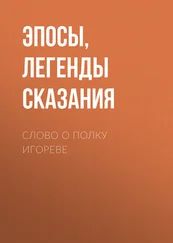А вот еще суждения А. Никитина о языке «Слова»: ему (А. Никитину. — Д. Л.) «мешала и явственная двуязычность: древний текст, хранивший все признаки благородной патины прошедших столетий, сменялся современной (?) русской речью без каких-либо признаков старины. Право, тут можно было потерять голову» (5, 185). Вот именно!
Чрезвычайная многоречивость автора мешает точному воспроизведению его концепции. Все же попытаюсь изложить концепцию А. Никитина так, как я ее и, смею заверить, большинство читателей понимают. Изложение это необходимо, чтобы стала ясной ее слабость и неаргументированность. Иного способа возражать А. Никитину я не вижу. Постараюсь добросовестно понять запутанное изложение А. Никитина.
Итак, согласно концепции А. Никитина, в «Слове» есть много непонятностей, переходов языковых, переходов сюжетных. Почему-то отсутствуют события предшествующих походу лет — всего XII в., автор «Слова» неоправданно обращается только к событиям и князьям XI в. и предшествующего времени.
Все это некрасиво, нехорошо, нелогично. «Слово» — гениальный памятник, но только какими-то проблесками.
Объяснение всем этим «непоследовательностям» в том, что в «Слове» спрятано другое произведение.
Именно якобы из-за этих «непоследовательностей» и возникли сомнения в подлинности «Слова». В «Слове» же использовано гениальное произведение гениального певца XI в. — Бояна, воспевавшего Святослава Ярославича и его сыновей, сведения о которых вычеркивались из летописей и заменялись в летописи ради заполнения образовавшихся «пустот» своего рода «упаковочным материалом» (который, кстати, так ценят историки культуры древней Руси).
Сам увлекшись созданием развлекательного произведения, А. Никитин даже в работе летописца видит порой ту же цель — «развлекать». Так, он предполагает, что летописец Всеволода Ярославича, изъяв текст о княжении Изяслава и Святослава, заполнил образовавшееся окно «развлекательным (разрядка моя. — Д. Л.) материалом: рассказами о чудесных знамениях, о волхвах, их обманах, о „прельщении бесовском“, преставлении Феодосия, игумена печерского, а вместе с тем и о черноризцах Киево-печерского монастыря» (7, 181). Любопытное представление о работе летописца и вообще о древнерусской литературе XI–XIII вв., в частности, как известно, не знавшей чистой развлекательности.
Кое-какие отрывки из «стихов» Бояна, скрытые в «Слове», А. Никитин приводит в конце своей третьей статьи.
Итак, «Слово» — не более чем компиляция гениальных (пусть так) отрывков предшествующего времени с добавлением собственных кусков автора. В результате в «Слове» множество непоследовательностей и нелогичностей.
Вот чем мы, оказывается, восхищались!
Далее как обоснование его концепции идут парадоксальные исторические выводы: и не только исторические, но и по истории древней русской литературы, по истории русского языка, по истории изучения «Слова» и т. д.
Оказывается, Владимир Мономах как историческая личность ничего не стоит. Владимир Мономах — это ничтожество на великокняжеском троне. А истинный крупный исторический деятель — Святослав Ярославич. Его и его сыновей воспел Боян. При этом «Боян был не просто сторонником Святославичей, а тьмутороканским или черниговским поэтом именно Святослава Ярославича, оставшимся на службе у его сыновей» (6, 219). Он их воспевал, а фальсификатор истории Владимир Мономах приказывал искажать летописные тексты, вычеркивая все данные о Святославе Ярославиче и о его сыновьях.
Боян пел славу Святославу Ярославичу и святославичам, и вот теперь в «Слове о полку Игореве» скрыты остатки этих произведений Бояна. Один Святослав (Святослав Ярославич) подменен другим (Святославом Всеволодовичем) и пр.
Песни Бояна сами подверглись цензурованию (как это осуществлялось? — Д. Л.), и отрывки из них использованы при описании событий 1185 г. «…только так можно объяснить и цитаты из Бояна, и сведения о людях и событиях XI века, и тот ничем не объяснимый разрыв в „Слове…“ между 1078 и 1185 годами, если не принимать в расчет смутное и до конца не понятное упоминание об юноше князе Ростиславе, падающее на 1093 год» (6, 221).
Так кажется А. Никитину. Но разве он не знает принятого в науке о «Слове» объяснения, что обращение к дедам, а не к отцам, т. е. разрыв в исторических упоминаниях, падающий на время отцов, объясняется тем, что именно деды считались родоначальниками политики внуков? Раз речь идет об ольговичах, то естественно, что по законам исторических представлений древней Руси их политика продолжает и объясняется политикой их родоначальника Олега Святославича (Гориславича). А раз речь идет о всеславичах, то, конечно, мысль автора «Слова» обращается к их родоначальнику — Всеславу Полоцкому. Ведь и в летописи постоянно упоминаются родоначальники, деды, а внуки носят даже название по родоначальникам: «ольговичи», «ярославичи», «мономаховичи», «всеславичи», «рогволодовичи» и т. д. Обо всем этом писалось и писалось…
Читать дальше
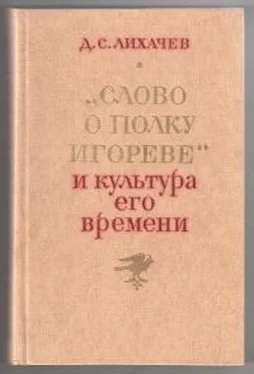



![Игорь Сухих - От «Слова о полку Игореве» до Лермонтова [litres]](/books/430444/igor-suhih-ot-slova-o-polku-igoreve-do-lermonto-thumb.webp)