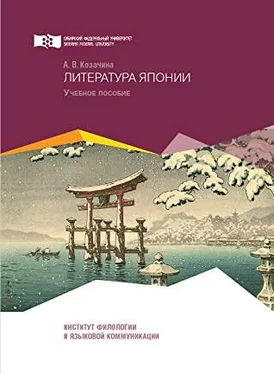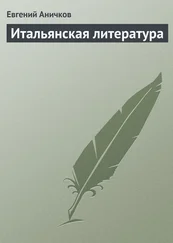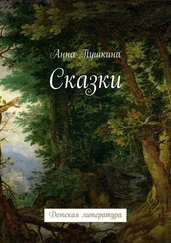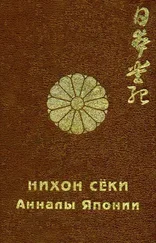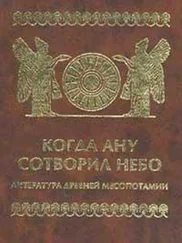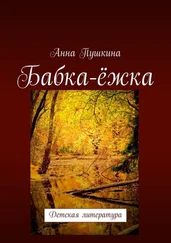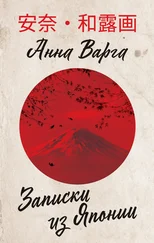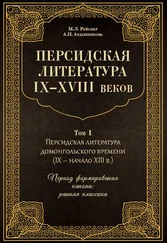Таким образом, в силу ограниченности человеческих возможностей следует надеяться на другие силы, а именно, на Будду Амиду, на его безграничное и бесконечное сострадание, связанное с его обетом обеспечить Освобождение .
4. Сото (основатель — Догэн, 1200一1253) вслед за китайской школой Цаодун традиции Чань учение Догэна, как оно выражено им в его книгах, проповедует практику медитации, известную как дзадзэ н. Догэн рассматривал восемь практик, ведущих к Нирване: 1) отказ от желаний; 2) знание меры; 3) покой; 4) старательное усилие; 5) вдумчивость; 6) практика медитации; 7) развитие мудрости; 8) избежание «пустых» дискуссий.
5. Нитирэн (основатель — Нитирэн, 1222一1282) проповедует исключительное почитание текста «Лотосовая сутра». Буддизм Нитирэна, в соответствии с «Лотосовой сутрой», основывается на вере в то, что все люди обладают природой Будды и поэтому могут достичь просветления прямо сейчас в этой жизни, там, где они находятся.
В отличие от других буддийских школ Нитирэна очень активно пропагандирует себя и пытается убедить сторонников других школ принять свою веру. Последователи Нитирэна считали, что максимальное распространение учения окажет положительное влияние на практикующих и приведёт к установлению мирного и процветающего общества.
В отличие от тантрической школы Сингон, ориентированной на придворную аристократию школы Тэндай или опиравшейся на самурайство Риндзай, школа Нитирэн, равно как и амидаистские школы, благодаря простоте своих учений привлекали к себе многих простолюдинов и получили широкое распространение в провинции. Не случайно именно амидаистские проповедники выступали в роли вдохновителей религиозных крестьянских бунтов, направленных против притеснений со стороны феодалов и чиновников.
Хонэн и Синран отделили религию не только от государственной власти, но и от государства, все перенеся на человека. Нитирэн вернул буддизму заботу и об обществе, и о государстве. В этом и состоит одна из важнейших особенностей учения Нитирэна: оно выводило буддизм из универсализма, вселенского во времени и в пространстве, и вводило его в локализм — в сферу определенности во времени и в пространстве; переключало его из мира человечества вообще в мир определенного народа. Именно по этой причине за Нитирэном и утвердилась слава создателя «японского буддизма», а его «японские настроения», понятные и нужные в свое время, впоследствии стали одним из источников тех националистических тенденций, которые не раз в последнее столетие прорывались на поверхность общественной жизни Японии и даже определяли ее государственную политику.
Система жанров эпохи Камакура.События, происходившие в стране, легли в основу как письменного, так и устного творчества. На дорогах страны можно было встретить «бива-хоси» («монахи с бива») — бродячих сказителей, которые вели сказ о воинских делах, то есть о главных событиях эпохи. Особенно интересно это было, конечно, для воинов, так как речь шла в первую очередь о них, но также увлекало и крестьян, из рядов которых и выходили будущие самураи. Самой популярной темой была борьба двух лагерей — «восточного» с домом Минамото во главе и «западного» во главе с домом Тайра.
Гунки. Творчество в этой сфере не ограничилось лишь формой сказа: из него родилась и литература эпохи, главный вид которой — эпическая поэма. В Японии ее назвали гунки — «описание войн», или сэнки, — «описание сражений». Сказания записывались, обрабатывались, соединялись в сюжетные циклы; циклы сцеплялись друг с другом, в результате получались целые эпопеи. «Хэйкэ-бива» — «Сказ под бива о Хэйкэ» (то есть доме Тайра) — превратился в две большие эпопеи: первая, самая знаменитая, стала называться по старому образцу — «Хэйкэ-моногатари», «Повесть о доме Тайра»; название второй составилось по образцу названия «Кодзики», старой историко-мифологической эпопеи — «Гэмпэй сэйсуйки», «Сказание о расцвете и упадке Минамото и Тайра».
Разумеется, эти сказания утрачивали свой первоначальный вид, так как записывались и переписывались не учеными-фольклористами, щепетильно относящимися к малейшей детали сказа, а монахами, которые хотели изложить этот сказ максимально, на их взгляд, грамотно, литературно. Сказания, как правило, дополнялись, уточнялись: ведь в распоряжении монахов были и старые хроники, дневники, оставшиеся от многих выдающихся деятелей прежней эпохи, а в этих материалах говорилось о тех же людях, о тех же событиях. Поэтому в ряде случаев в тексте эпопей чувствуется не только дыхание «книжности», но и ее прямое присутствие в виде переноса чего-нибудь из таких материалов.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу