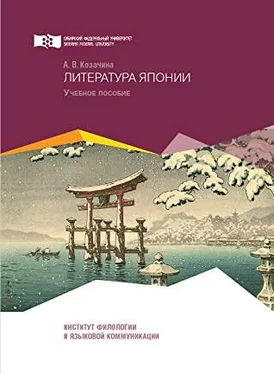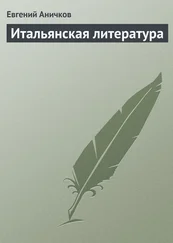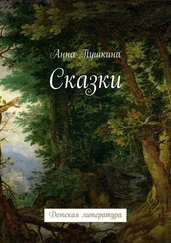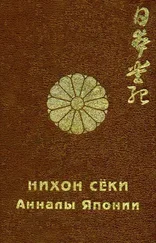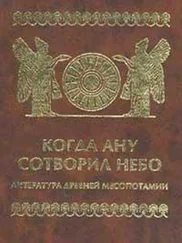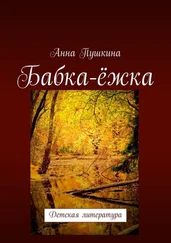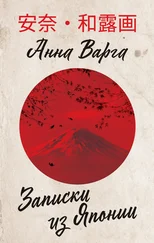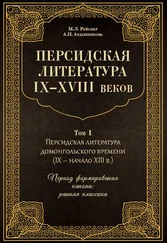С стилистической точки зрения гунки характеризуются прежде всего новым типом своего литературного языка: взамен хэйанского «вабун» представлен смешанный китайско-японский язык. Язык этот складывается из двух элементов совершенно различного происхождения, отражая фактическую картину разговорной речи Японии того времени, воспринявшей уже очень много китаизмов, но не вполне их еще усвоившей. Китаизмы в то время не были еще достаточно обработаны японским языком, не вошли органически в структуру японской речи. Гунки с этой точки зрения представляют собой любопытную картину введения в японский язык все еще достаточно чуждых иностранных элементов и нарушения в угоду им характерного строя японской речи: китаизмы выступают не только в лексическом облике, но и в синтаксическом строении фразы.
Кроме того, язык гунки характеризуется таким же смешением стилистических элементов речи — «изящных речений» и «вульгарных» выражений. Иначе говоря, в гунки можно найти и элементы языка хэйанских моногатари, и целый ряд простонародных слов. Это как нельзя лучше соответствует облику самого самурайства того времени: высшие слои были связаны с родовой знатью, те же Тайра, Минамото вели свое происхождение от рода самих императоров; простое же дворянство было тесно связано с народными массами, с крестьянством. В обиходе первых имели хождение изящная лексика и все изысканные обороты речи хэйанских аристократов; в среде вторых жил японский народный язык.
Новый язык еще не создался: все эти элементы не получили пока своего гармонического объединения. Как китаизмы и японизмы, с одной стороны, так и изящный слог и вульгарная речь, с другой, существовали пока совершенно раздельно, обособленно друг от друга.
Изложение в гунки характеризуется чрезвычайной неравномерностью и неуравновешенностью в использовании семантических средств языка. Метафорические и метонимические украшения даются большей частью очень неумело: они создают то впечатление напыщенности и пустой риторичности, то излишней разукрашенности и нарочитости, иногда представляются как бы совершенно искусственным введением в слог, плохо вяжущимся с окружающей стилистической средой. Того виртуозного владения стилистической семантикой речи, которое можно наблюдать в хэйанской литературе, здесь не замечается вовсе.
Несмотря на всю эту стилистическую дисгармонию, гунки обладают своим собственным, совершенно особым стилистическим колоритом. Здесь одновременно присутствуют и хэйанский слог, и вульгарная речь, а китайские обороты, и так называемый стиль Адзума (полукитайский, полународный язык Канто). Может быть, именно такое соединение столь разнородных элементов и создает впечатление этого своеобразия. Получается характерный эффект живости, энергичности речи, изложение отличается совершенно неведомой для Хэйана силой.
В этом отношении «мужественность» слога гунки резко отличает их от «женственности» слога моногатари. Точно так же одновременное существование самых различных лексических элементов: изящных речений, вульгаризмов, китаизмов и буддийских выражений — создает необычайно живой и разнообразный ритм изложения. Той монотонности и однообразия, которые характерны для многих моногатари, больше нет; взамен — быстрая смена лексических типов, а отсюда отчасти и синтаксических конструкций; богатство оттенков различной семантической значимости, неожиданные повороты; другими словами, прихотливый ритм всего изложения. И в этом, несомненно, заключается наибольшая стилистическая прелесть гунки.
Наиболее выдающимся из всех этих «военных описаний» в эпоху Камакура считают четыре произведения: «Хогэн-моногатари», «Хэйдзи-моногатари», «Хэйкэ-моногатари» и «Гэмпэй-сэйсуйки». Все они говорят о той переходной эпохе, которая привела к крушению аристократической монархии, с одной стороны, и к началу военного управления страной самураями, с другой. Все они рисуют картины подымающегося сословия (военного дворянства), его постепенного усиления, его борьбы с придворной знатью, внутренних междоусобиц и, наконец, объединения и победы.
Так, в новой литературе четко проявляется и облик человека эпохи, в первую очередь, конечно, ее героя — воина. И этот герой двуликий: господин и слуга, сеньор и вассал. Один и тот же воин был и сеньором, то есть имел своих вассалов, и вассалом, то есть имел над собой своего сеньора. Но даже если он был и только вассал, все равно в его сознании всегда присутствовала идея взаимосвязанности и взаимозависимости. Вассал исполнял свой долг по отношению к сеньору, но он знал, что у его сеньора есть свой долг по отношению к нему.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу