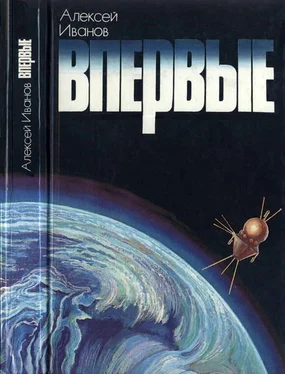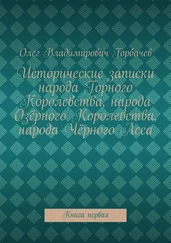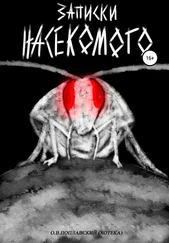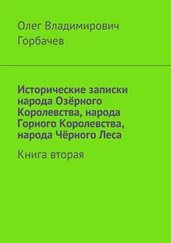Вот лифт, ткнувшись в ограничитель, останавливается. В нашем распоряжении небольшая стрела-кран. Цепляем кабину, заводим ее в люк, ставим на место. Подключены все электрические штепсельные разъемы. Проверочные включения. Записываются предполетные данные собачек — пульс, дыхание, температура.
Снизу по телефону передают, что все в порядке. Можно готовиться к закрытию люка. До старта 60 минут, из них только 30 — наши. За это время надо все сделать и спуститься вниз. А это, кстати, не очень просто. Лифта для людей, как я уже говорил, еще не было. Поднимались к носу ракеты и спускались оттуда по трапам-лесенкам, расположенным в разных, более или менее удобных, а порой и совсем неудобных местах.
Стартовая система — сложнейшее сооружение высотой с пятнадцатиэтажный дом. Бывали случаи — спускаешься вниз, открываешь люк на промежуточной площадке, а оттуда торчит голова поднимающегося товарища. А ширина лестнички сантиметров двадцать — попробуй разойдись! Как-то раз один из новичков так растерялся, что ни вверх, ни вниз, хоть плачь. Потом долго этот случай вспоминали. Рассказывали как «последний, самый свежий» анекдот.
Все установлено, все готово. Можно закрывать люк. Беру в руки фонарик, осматриваю приборы, кабели, механизмы. Последние приветственные постукивания в иллюминатор, в который глядят Стрелка и Белка. Вроде все в порядке. Но вдруг вижу какой-то белый бесформенный кусок ткани, лежащий в щели между катапультируемой капсулой и этим самым… «имени Курносовой». Мурашки пошли по спине. Да это же не пристегнутая на место шелковая перегородочка, направляющая воздух от вентилятора к приборам для их охлаждения! Ее отстегнули, когда мучились с установкой прибора. Просовываю руку в щель, но не достаю. Что делать? Приборы могут перегреться. Что делать? Что? Вынимать капсулу с кабиной? Или одну кабину? И то и другое — работа на час-полтора. А времени-то — минуты.
Виктор Скопцов, наш монтажник, обычно всегда работавший на верхнем мостике, попробовал сунуться в люк — нет, не пролезть, крупноват. Тогда решил рискнуть я. Разделся, снял с себя все что мог. Товарищи держали меня за ноги. Голова прошла в щель между шпангоутом люка и кабиной с собаками. Невольно вспомнилось из житейской практики: важно, чтобы прошла голова, остальное пройдет. Грудь и спину сдавило, но терпеть можно.
Протиснулся еще глубже. Лег грудью на кабину. К счастью, она оклеена поролоном. Это уже комфорт! Протискиваюсь головой вниз еще глубже. Одной рукой держусь, другую вытягиваю к злополучной тряпке. Ура!!! Могу ее взять и пристегнуть на место. Есть! Слава аллаху! Теперь обратно. Обратно всегда хуже, чем туда. Но вылез и даже умудрился ничего не повредить ногами и руками. Вылез, сел на мостик. Ребята потом говорили, что я дрожал. Не помню. Может быть. Как влезал и вылезал, только потом в сознании восстановилось. Помню только, что посмотрел на Виктора и вздохнул. Что и говорить, хороши! Сделать такую ошибку! Посмотрел на часы. На все влезание и вылезание ушло минут пять. Можно закрывать люк. Сергею Павловичу я об этом не докладывал. Разнос за такие фокусы мог быть уничтожающим.
Неисправности, ошибки, отказы приборов… Не часто ли, не много ли? Не попахивает ли это разгильдяйством? Действительно, почему память сохранила именно эти случаи? Что, из таких «эпизодов» и состояла вся наша работа? Нет, конечно. Нет! Со всей категоричностью — нет! Просто все то, что шло строго по плану, по графику, по программе, без сбоев, без отказов, все то, что составляло 99,9 процента наших производственных и испытательных забот, сознание относило к само собой разумеющемуся. Все это относилось к понятию «нормально» и не окрашивалось эмоциями. А исключения, вот эти единички исключений, запоминались. Запоминались как необычное, как из ряда вон выходящее…
К счастью, таких случаев было очень мало. Строгий расчет, обоснованность, четкость, нетерпимость к промахам — вот что воспитывал у своих сотрудников Сергей Павлович. Он не терпел ошибок. Его сознание, казалось, ни на минуту не допускало того, что в таком большом и сложном деле кто-то может что-то упустить, что-то просмотреть. В гневе он был, прямо скажем, резок. Трудно найти человека, который мог бы избежать его разноса, если того заслуживал. В таких случаях пощады не знал никто, не засчитывались никакие авторитеты, не учитывались никакие прошлые заслуги. Обычно больше, чем кому другому, доставалось ведущим конструкторам, которые были обязаны все знать, все видеть и за все отвечать.
Читать дальше