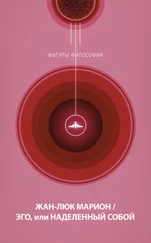Государство, VI, 509 Ь.
De Trinitate, XIII, 20, 25, 16, 338. И действительно, желание бессмертия (неосуществимое) следует, как желание средства, из абсолютно неизбежного желания цели, то есть блаженства; так что сама тоска по бессмертию свидетельствует, пусть косвенно и заочно, о принципиальном характере стремления к блаженству: «Cum ergo beati esse omnes homines velint, si vere volunt, profecto et esse immortales volunt: aliter enim beati esse non possent. Denique et de immortalitate interrogati, sicut et de beatitudine, omnes earn se velle respondent. Sed qualiscumque beatitudo, quae potius vocetur quam sit, in hac vita quaeritur, imo vero fingitur, dum immortalitas desperatur, sine qua beatitudo esse non potest» («Поскольку все люди хотят быть счастливы, то если они действительно хотят этого, они хотят и бессмертия, ибо иначе они не могли бы быть счастливы. И если спросить их о бессмертии так же, как о блаженстве, они ответят, что хотят его тоже. Но в этой жизни они ищут какого-то ограниченного блаженства, или, точнее, выдумывают его, отчаиваясь между тем в бессмертии, без которого блаженство недостижимо» (De Trinitate , XIII, 8,11,16, 294)).
Sermones 306, 2 и 3, PL 38, 1401.
«Ita vellent beati esse: quod eos velle certissimum est» («Они хотят жить блаженной жизнью, и несомненно, что они этого хотят» ( Исповедь , X, 20, 29,14,194)). См.: «si interrogari [homines] possent, utrum beati esse vellent, sine ulla dubitatione velle res-ponderent» («если бы можно было спросить у людей, хотят ли они быть счастливыми, они без сомнения ответили бы, что хотят» (Ibid, 196)). А также: «Quid est hoc? Si quaeratur a duobus, utrum militare velint, fieri possit, ut alter eorum velle se, alter nolle respondeat; si autem quaeratur, utrum esse beati velint, uterque se statim sine ulla dubitatione dicat optare» («Почему происходит так, что если спросить у двоих людей, хотят ли они служить в армии, то один может ответить „да“, а другой – „нет“, но если спросить у них, хотят ли они быть счастливы, оба без сомнения тут же скажут, что хотят?» (Ibid, X, 21, 31, 14,198)).
Относительно этого картезианского термина, столь же редкого, сколь знаменитого, см.: «mininum quid invenero quod certum sit et inconcussum» («я найду что-то самое малое, что было бы достоверным и неколебимым») и «ut ita tandem praecise remaneat illud tan turn quod certum sit et inconcussum» («так чтобы в конце концов оставалось в точности только то, что было бы достоверным и неколебимым») (AT VII, 24,12 et 25, 23). Мы находим его уже в De Libero Arbitrio, II, 2, 5: «„Deum esse“. – „Edam hoc non contemplando, sed credendo inconcussum teneo“» («„Бог есть“. – „Даже не размышляя над этим, я верой принимаю это как неколебимую истину^» (ВА 6, 214)). Напротив, чего не хватает человеку в испытаниях искушением, так это неколебимого, inconcussus , в нем самом (см. Confessiones , X, 30, 41, 14, 214).
In Lvangelium loannis, XXIII, 5, PL 35, 1585. См.: «Ut enim homo se diligere nosset, constitutus est ei finis, quo referret omnia quae ageret, ut beatus esset; non enim qui se diligit aliud vult esse quam beatus. Hie autem finis est adhaerere Deo» («Чтобы человек знал, как подобает любить себя, ему дана цель, с которой и надлежит ему соотносить все, что он делает, чтобы быть счастливым (ибо кто любит себя, не желает ничего иного, как быть счастливым). Эта цель – соединение с Богом» (De Civitate Dei , X, 3, 34, 436)).
Аристотель, Метафизика , 1, 980 а 1. Можно, напротив, сказать, что Никомахова этика , 1,1, 1094 а 1, постулируя, что «Раза tekne kaipasa methodos, homoios de praxis te kaiproairesis agathou tinos efiestai dokei («Всякое искусство, всякое предприятие, как и всякое действие и намерение, движимы желанием некоего блага»), уже предполагает то, что составляет главную трудность: если все эти виды деятельности направлены на благо и даже желают его, то как теоретическое соединяется в них с желанием? Направлено ли желание на само знание, или на то, что знание позволяет познать? А если оно направлено и на то, и на другое, то в том же ли самом смысле?
Pascal B. Pensées, § 148 (OEuvres complètes, p. 519).
Sermones 34, 2, PL 38, 210.
De Genesi ad litteram , VIII, 26, 48, BA 49, 82. Мы обнаруживаем здесь вновь то самое, что Августин пытался продемонстрировать своим достаточно натянутым комментарием к / Кор. 2:11: «Plus noverat artifex quid esset in opere suo, quam ipsum opus quid esset in semetipso. Creator hominis noverat quid esset in homine, quod ipse creatus homo non noverat <���…>. Homo ergo nesciebat quid esset in se, sed Creator hominis noverat quid esset in homine» («Ремесленник лучше знает, что находится в его изделии, нежели о том знает оно само. Творец человека знал, что находилось в человеке, а сам человек не знал этого; <���…>. Поэтому человек не знал, что было в нем, но Творец человека знал, что было в человеке» (In KLvangelium loannis\ X, 2, PL 35,1475)).
См.: «Lux non est absens, sed vos absentee estis a luce. Caecus in sole praesentem habet solem, sed absens est ipse soli» («Не в свете нет недостатка, а вы сами бежите света. Когда солнечный свет окружает слепого, то у него нет недостатка в солнце, но во взгляде слепого оно отсутствует» (In Lvangelium Ioannis, III, 5, PL 35, 1398). Поэтому и отличаются порой неверующие медлительностью и старческим консерватизмом: «ессе pleni sunt vetustatis, qui nobis dicunt» («и вот они, обветшавшие разумом, говорят нам» (Confessiones, XI, 10,12,14, 290)). Курсель был прав, когда говорил об этой медлительности в приятии Бога (Courcelle Р. Recherches sur les „Confessiones“ de Saint Augustin^ Paris 1951, p. 441 и далее).
Читать дальше
![Жан-Люк Марион Эго, или Наделенный собой [litres] обложка книги](/books/389246/zhan-lyuk-marion-ego-ili-nadelennyj-soboj-litres-cover.webp)

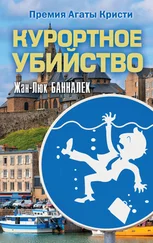

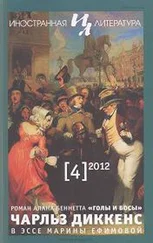

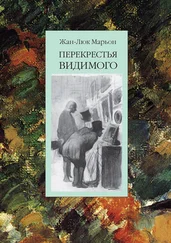

![Люк Бессон - Несносный ребенок. Автобиография [litres]](/books/390804/lyuk-besson-nesnosnyj-rebenok-avtobiografiya-litre-thumb.webp)
![Наталья Мазуркевич - Вне спектра, или Остаться собой [litres]](/books/400841/natalya-mazurkevich-vne-spektra-ili-ostatsya-soboj-thumb.webp)