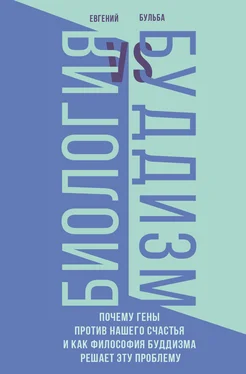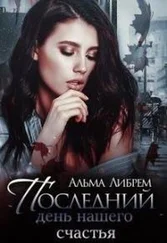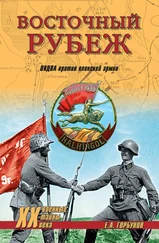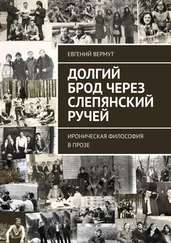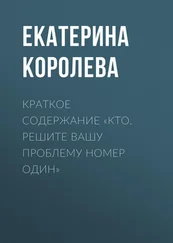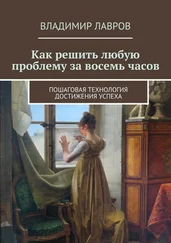На следующем витке эволюции противостояние усложнилось – млекопитающие обрели некоторую свободу поведения и стали проявлять поведенческие реакции, учитывающие большее количество условий. Например, оказалось, что группе необходимо некоторое количество неродственников – близкородственные группы вырождались, кроме того, жизнь млекопитающих полна неожиданностей, и группы часто перемешивались. Родственный альтруизм расширился до группового – в своей группе все еще высока вероятность поддержать родственника, и, кроме того, группой легче выжить. Чтобы группы выжили в межгрупповой борьбе, необходимо было как-то отфильтровывать эгоистов – появился реципрокный альтруизм.
В группе млекопитающих появляются следующие эволюционно связанные ступени альтруизма: мать бескорыстно заботится о детях, родственники охотнее помогают друг другу, чем посторонним, ну а с остальными членами стаи каждое животное сотрудничает на основе взаимности.
До сих пор все выглядит логично и достаточно предсказуемо, но грянул гром, и появились приматы. И если до этих пор ситуация выглядела сложной, но более-менее понятной, то приматы окончательно все запутали. Эмпатия, парохиальность, эгалитарность, добавленные к реципрокному альтруизму и борьбе за существование, создали дивный мир, в котором части противоречат друг другу и борются, но ни одна не побеждает. Ну и в качестве «вишенки на тортике» – человек. Примат, который и так уже безнадежно противоречивую ситуацию поставил с ног на голову. У человека механизмы, выработанные как средство распространения своих генов, стали использоваться в других целях – зачастую противоположных. На ранних стадиях человек подчинялся всем законам биологической эволюции и воспроизводил положенные формы борьбы эгоистов с альтруистами, но… Он добавил еще один уровень – благодаря усиленной способности к рефлексии перенес борьбу в сознание. Теперь он не только принимал участие в групповой и индивидуальной эволюции – в его сознании шла постоянная борьба между двумя магистральными тенденциями. Чистых эгоистов и альтруистов среди нас крайне мало, и им, наверное, проще живется… Остальные мечутся в выборе между совестливой эмпатией и эгоистичным лицемерием.
Кроме всего прочего, человек в ходе этой внутренней борьбы выработал сложную систему культурного наследования, которая сама по себе неоднородна и внутренне конфликтна и вдобавок периодически конфликтует с биологическими программами, которые также простотой отнюдь не отличаются. Получается, что то, что создавалось как утилитарный механизм, стало противоречить своему предназначению. Думаю, окинув взглядом весь этот винегрет человеческих сложностей, мы захотим хоть как-то его упростить ради понимания.
• Наша первая встреча с процессами, ведущими к альтруизму, случилась очень рано. Совсем рано. В тот момент, когда каждый из нас был просто оплодотворенной яйцеклеткой в матке своей мамы. Яйцеклетка начала делиться, и каждая новая клетка не пускалась в независимое плаванье, а оставалась в колонии и специализировалась. Наши альтруистичные клетки соглашались не размножаться, а становиться специализированными тканями – нервами, мышцами, скелетом, кожей… Этот этап характерен для одноклеточных и колоний.
• С ранних лет и до глубокой старости мы испытываем иррациональную привязанность к родным: детям, родителям, братьям-сестрам, племянникам… На том основании, что «это наша кровь», мы готовы им прощать самые отвратительные проступки и поддерживать в ситуации, когда они неправы. Мы фетишируем родительскую любовь, которая, как правило, слепа, и готовы в любой момент, даже по надуманному предлогу, ринуться на защиту своего чада. Всего пару столетий назад мы были бы готовы включиться в кровную месть. Мы готовы беспокоиться о своих детях, даже если они отнюдь не паиньки. Если у нас нет собственных детей, то мы тянемся к племянникам и дальним родственникам. Мы чувствуем смутное осуждение к тем, кто разрывает родственные отношения, пусть даже и вполне оправданно. Так в нашем сознании проявляется родственный альтруизм. Этот вид альтруизма еще называется родственным отбором, и в эволюции он появляется у общественных насекомых.
• С подросткового возраста мы стремимся принадлежать к какой-нибудь группе – уличной банде, спортивной секции, группе музыкальных фанатов… Нам нужны «свои». С возрастом эта группа меняется, но стремление остается. Развитой человек придумывает массу возвышенных поводов, чтобы объяснить свою преданность группе. И чем более развит человек, тем благороднее мотивы и обширнее группа. Преданность уличной банде меняется на национализм, патриотизм, профессиональную группу, религию, любовь к родному городу или родине, борьбу с угнетателями… Но в основе столь благородных объединений все равно лежит достаточно мрачное качество – групповой альтруизм, основанный на групповом отборе. У людей групповой альтруизм получил название парохиального, он и вынуждает искать свою группу. Но для единения нужны «чужие», групповой отбор работает только в условиях борьбы с другими группами, а значит, приводит к братской любви с единоверцами, а также к межрелигиозной розни; патриотизму и иррациональному одобрению агрессии собственной страны, следовательно, к войне; преданности нации и ксенофобии, солидарности с трудящимися и классовой борьбе с теми, кто немного богаче… Групповой альтруизм наслаивается на родственный и появляется у стайных позвоночных.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу