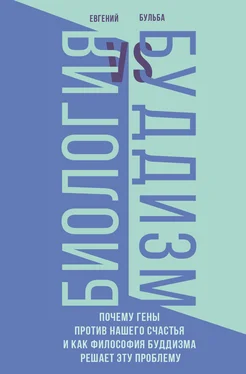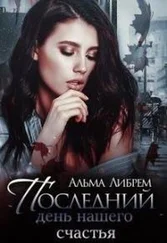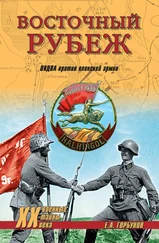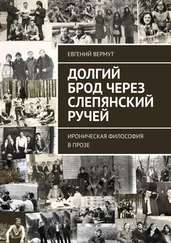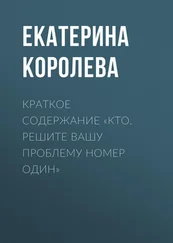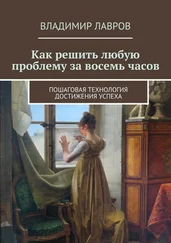Синегорлые склонны к кооперации – казалось бы, понятное проявление альтруизма в популяции, где часть особей – альтруисты. Но оказалось, что синегорлые помогают только синегорлым. Почему они помогают только «своим»? Почему не желтым? Или оранжевому, попавшему в тяжелую ситуацию?
Ранее Гамильтон предсказал возможность подобного явления, которое получило название «альтруизм зеленой бороды». Смысл заключается в следующем: если ты похож на меня, значит, скорее всего, у нас схожие гены. Таким образом, люди, чем-то отличающиеся от остальных (зеленобородые), вероятнее проявят взаимную симпатию. Это предсказание нашло подтверждение в виде синегорлых игуан.
У многоклеточных организмов противостояние эгоистов и альтруистов обрело сложность и завораживающую интригу. Следуя логике теории группового отбора, если популяция живет в неизменных условиях, то, подобно миру бактерий, количество альтруистов должно периодически сходить на минимум, а оказалось, что нет. Многоклеточные альтруисты научились защищаться.
Теории группового и родственного отбора хорошо объясняют появление альтруистов, но не то, что именно происходит между особями.
В теории родственного отбора также обнаружились нестыковки. Оказалось, что стайные млекопитающие и птицы ведут себя альтруистично по отношению к любым особям, а не только к родственникам. Кроме того, у высших приматов нет фиксированного процента эгоистов и альтруистов – между явными представителями есть подавляющее количество ситуативных и переменчивых.
Для того чтобы прояснить подобные нестыковки, был необходим очередной прорыв.
Ничего личного – чистая наука
Наиболее простым способом обеспечения собственного «эгоистического» выживания в борьбе с конкурентами для гена является программирование эгоистичного поведения организма, в котором ген находится. Существует множество ситуаций, в которых выживание отдельного организма приводит к выживанию его генов. Но для различных обстоятельств требуются различные стратегии. Случается, и не так уж редко, что гены эгоистично обеспечивают собственное выживание, программируя организмы на альтруистическое поведение [58] Докинз Р. Бог как иллюзия. СПб.: Азбука-Аттикус, 2013.
.
Ричард Докинз
В дебатах о происхождении альтруизма ломались копья и судьбы. Объяснение природы альтруизма не могло быть только академическим спором. Этот научный спор наглухо впаян в мировоззренческую проблему – определение человечности и того, какой способ жизни естественен для человека.
То, какие страсти кипели вокруг диспута и что этот, казалось бы, «академический» спор делал с его участниками, трагически продемонстрировал известный химик Джордж Прайс [59] Harman О. The Price of Altruism: George Price and the Search for the Origins of Kindness, NY: W. W. Norton, 2010.
.
Прайс не был биологом. Прежде чем подключиться к обсуждению происхождения альтруизма, он состоялся в других областях – участвовал в Манхэттенском проекте, был известным химиком, журналистом, работал математиком в IBM. Приступая к исследованию происхождения альтруизма, он уже был успешным и типичным ученым и, как многие талантливые ученые, высказывал эпатажные идеи [60] Например, в одной из статей предлагал правительству США купить каждому жителю СССР по две пары качественной обуви (на сумму 2 миллиарда долларов, что в 1957 году звучало намного более внушительно, чем сегодня) в обмен на освобождение Венгрии.
, был немного странным, эгоистичным и скептичным.
В 1967 году Прайс решил радикально изменить жизнь. Казалось, все вело к этому: он развелся с женой, его политологические идеи игнорировались (по непонятной только для него причине), работа не приносила удовольствия и вдобавок ко всему после развода у него обнаружился рак щитовидной железы. Во время операции по удалению опухоли был поврежден нерв, и в результате он остался с частично парализованным плечевым суставом, но получил от страховой компании приличную сумму, которой хватило на переезд в Лондон.
К тому времени самой живой и интересной темой в науке было происхождение альтруизма. Что ж, Прайс переехал в Лондон и на несколько месяцев исчез в тамошних научных библиотеках.
Там Прайс наткнулся на статью Гамильтона, в которой излагалась идея родственного альтруизма. В большинстве книг утверждалось, что эволюционная приспособленность организма выражается в том, сколько у него потомков. Гамильтон же считал, что для того, чтобы оценить эволюционную успешность особи, необходимо сдвинуть критерий и оценивать не потомков, а распространение генов. Получается, что нужно учитывать количество выживших родственников с общими генами. При этом количество общих генов зависит от степени родства. Значит, особь может вовсе не иметь потомков, но быть успешной, если, например, у нее много племянников. По отношению к этим племянникам и другим родственникам необходимо проявлять альтруизм, такой же, как и к собственным детям, по вполне прозаической и эгоистичной причине – чтобы обеспечить распространение аналогичных генов. Само собой, из этой теории следовало, что альтруистичное самопожертвование – это наследственный механизм, развившийся в процессе эволюции.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу