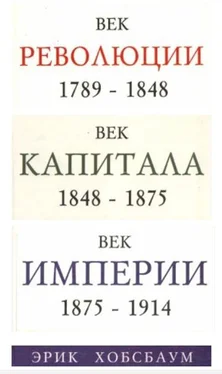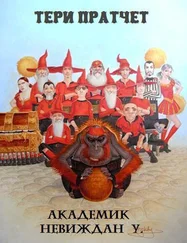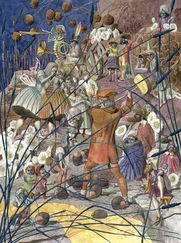Национальные предприниматели, появлявшиеся в этот период, как ни парадоксально, были наименее националистическим элементом. По обшему признанию, в разобщенной Германии и Италии имело смысл создать большой, единый национальный рынок. Автор песни «Германия превыше всего» обращался к тем, кто производил
Ветчину и ножницы, ботинки и подвязки,
Шерсть и мыло, и пряжу, и пиво...'
потому что ОНИ добились того, чего не мог свершить дух национализма, великого чувства национального единства посредством объединения покупателей. Тем не менее существует немного свидетельств того, что грузоотправители Генуи (которые позже обеспечивали в основном поддержку Гарибальди) предпочитали возможности национального рынка Италии большим возможностям торговли по всему Средиземномсфью. А в больших многонациональных империях промьшшенный или торговый центр, который возникал в какой-то одной провинции, мог столкнуться с дискриминацией, но на задворках, понятно, предпочитали большой рынок, открытый для них сейчас, маленькому, когда наступит национальная независимость. Польские промышленники притом, что в их распоряжении была и вся Россия, принимали слабое участие в национальном освобождении Польши. Когда Палацкий выступал в защиту чехов, говоря: «Если бы Австрия не существовала, ее нужно было бы придумать», он не только призывал монархию защитить чехов от немцев, но также подчеркивал экономическое значение промышленно более развитого сектора большой, но потому и отсталой империи. Интересы бизнеса иногда ставились вьш 1е интересов национальных, как случилось в Бельгии, где сильное передовое промьшшенное объединение оказалось в невыгодном положении под управлением могущественной голландской купеческой общины, с которой она была связана с 1815 г. Но это был случай исключительный. Известные представители национального среднего класса в этот период были профессионалами низшего и среднего звена, административные работники и интеллектуалы — все они составляли образованные классы. (Они, конечно, не отличались от класса деловых людей, особенно в отсталых странах, где у административных работников, юристов и т. п. основные доходы черпались из сельских поместий). Говоря точнее, передовой отряд национального среднего класса сражался за свои позиции на полях образования, тогда много новых образованных людей пришли туда, где все места были уже заняты узкой элитой. Национальным достижением было развитие школ и университетов и так как они находились в первых рядах носителей прогресса, конфликт между Гуманней и Данией из-за Шлезвиг-Гольштейна в 1848 г., а потом снова в 1864 г. был как бы предвосхищен конфликтом Кильского и Копенгагенского университетов по этому вопросу еще в середине 1840-х годов.
Прогресс был удивительный, хотя общее число образованных людей оставалось невелико. Число учеников во французских государственных лицеях удвоилось с 1809 по 1842 г. и особенно увеличилось во время июльской монархии, но даже в 1842 г. оно насчитывало менее 19 тыс. (общее число детей, обучавшихся в средней школе** тогда составляло около 70 тыс.). В России к 1850 г. в средней школе обучалось около 20 тыс. учеников, и это из общего населения в 68млн** Число студентов в университетах было еще меньше, хотя оно возрастало. Трудно представить себе, что прусская студенческая молодежь, которая была проникнута идеей освобождения после 1806 г., насчитывала в 1805 г. не более 1 500 молодых людей; что все ученики Политехнической школы были настоящей отравой для Бурбонов в период после 1815 г.; всего за время с 1815 по 1830 г. там был подготовлен 1 581 молодой человек, а это значит, что в год принималось около 100 человек. Революционные заслуги студентов в 1848 г. не дают нам забыть, что в Европе, включая нереволюционные Британские острова, всего их насчитывалось около 40 тыс.^* Но это число все время росло. В России оно увнличилось с 1700 в 1825 г. до 4 600 в 1848 г. И даже если они не изменяли общество, все равно университеты позволили им осознать себя как социальную фуппу. Никто не помнит того, что в 1789 г. в Парижском университете было около 6тыс. студентов, потому что они не ифа-ли в революции никакой самостоятельной роли® 42 42 В начале XVIII в. только около 60% всех названий, опубликованных в Германии, были на немецком языке, с этого времени оно увеличивалось почти постоянно.
Но в 1830 г. никто не мог предвидеть такого числа студентов, участвовавших в революционных собыгиях.
Читать дальше