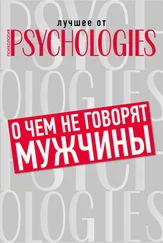Исторически с понятием «нового мирового экономического порядка» неразрывно связаны представления о некоем особом честном и справедливом, джентльменском «кодексе поведения». В период обсуждения «большой тройкой» в конце 1944 г. планов ключевых послевоенных экономических и финансовых институтов (МВФ, МБРР, МТО), в центре внимания был англо-американский план Международного торгового союза или комиссии с обязательным Кодексом правил регулирования мировой торговли. В 1952 г. на международной Московской экономической конференции был принят альтернативный Пакт экономического сотрудничества [555]. В 1964 г. созданная по инициативе СССР Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) разработала и приняла «Принципы международных торговых отношений и торговой политики, способствующих развитию». Настоящий всплеск различных проектов «кодексов» и «правил игры» в экономической сфере произошел в 1970-х гг. с началом «экономики разрядки» [556].
Вся эта пестрая гамма многосторонней и двусторонней экономической дипломатии до недавнего времени оставалась на втором плане по сравнению с вопросами разоружения и послевоенных границ. В данной статье ставилась задача рассмотреть формирование ключевых институтов глобальной экономической архитектуры через призму участия СССР в многосторонней экономической дипломатии с первых военных лет вплоть до конца 1940-х гг [557].
Как известно, 24 сентября 1941 г. на международной конференции в Лондоне СССР выразил согласие с основными положениями Атлантической Хартии, оглашенными в августе 1941 г. лидерами Велико британии и США. Хартия стала программным документом антигитлеровской коалиции. Ее положения позже легли в основу устава ООН. Пятый пункт этого документа декларировал готовность участвовать в международном экономическом сотрудничестве. И практически сразу после подписания этого документа началась негласная борьба между Великобританией и США за звание архитекторов послевоенной мировой экономической системы.
Первыми инициативу в свои руки попытались взять англичане. Еще не открылся второй фронт в Европе, а уже в ноябре 1942 г. Великобританией был разработан объемный проект Международного клирингового союза (МКС), авторство которого принадлежит известному экономисту Джону Мейнарду Кейнсу 20 февраля 1943 г. британский посол в Москве А. Керр передал его В. М. Молотову.
«Этот план представляет собой начало будущего экономического порядка мира между странами и «выигрыша мира»», – прямо говорилось в конце документа, объяснявшего необходимость «финансового разоружения» и упорядочения валютного хаоса, возникшего в результате Второй мировой войны [558]. Главным пунктом было введение общепризнанного метода определения курсов национальных валют и нового инструмента денежного обращения – безналичного «банкора», чья стоимость четко фиксируется в золотом эквиваленте. Это позволило бы странам определить их дебетовое или кредитовое сальдо в МКС и в случае положительного баланса открывало возможность для получения овердрафта от МКС.
Однако помимо чисто финансовых положений в проекте имелись соображения более далеко идущего порядка: «Клиринговый союз может стать инструментом и поддержкой для международной политики в дополнение к тем целям, которые являются его первоначальной задачей. Это положение заслуживает возможно большего подчеркивания. Союз может стать осью будущего экономического управления миром» [559].
Первый документ с реакцией советского эксперта принадлежит перу Амазаспа Авакимовича Арутюняна (в то время – работника Центрального аппарата НКИД, с 1944 г. – заместителя заведующего Экономическим отделом НКИД). Она была очень скупой и однозначной – это англоамериканский сговор и попытка взять руководство послевоенного мира в свои руки [560]. В другом анализе отмечалось, что это один из серии проектов по «международному экономическому планированию», ставивших своей целью «ограничить роль СССР в послевоенном устройстве мира, предотвратить рост политического и экономического влияния СССР в Европе и подчинить своему контролю его экономическое развитие после войны» [561]. Союзники предлагали СССР лишь присоединиться к этому проекту (а не принять участие в разработке), к тому же он мог рассчитывать на небольшую квоту в МКС, т. к. она исчислялась в соответствии с внешнеторговым оборотом страны, который у Советского Союза был небольшой.
Вместе с тем, советские эксперты и дипломаты были далеки от того, чтобы поставить на этом точку. В развернутом анализе «плана Кейнса», озаглавленном коротко: «от тов. Барановского», подчеркивалось, что Советский Союз заинтересован в расширении своей внешней торговли после войны. «Это обусловлено, в частности, значительными потребностями, которые возникнут в связи с задачей восстановления хозяйства освобожденных от оккупации районов СССР. Окажется, по-видимому, желательным завоз промышленного оборудования и некоторых видов промышленного сырья. В первое время мы будем продолжать закупки за границей и продовольствия и некоторых предметов потребления. Несомненно, мы будем расширять отечественный экспорт промышленных товаров и сырья (нефть, марганец, лес и др.)» [562].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
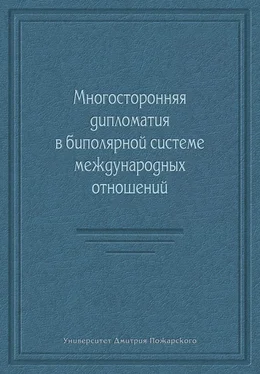






![Коллектив авторов Религия - Старинные рождественские рассказы русских писателей [сборник]](/books/388395/kollektiv-avtorov-religiya-starinnye-rozhdestvenskie-thumb.webp)
![Коллектив авторов - Век диаспоры. Траектории зарубежной русской литературы (1920–2020). Сборник статей [litres]](/books/436984/kollektiv-avtorov-vek-diaspory-traektorii-zarubezh-thumb.webp)