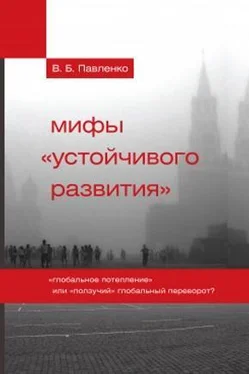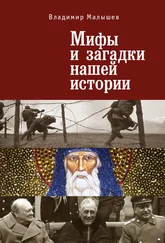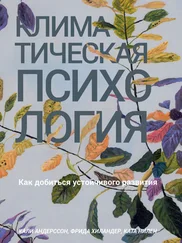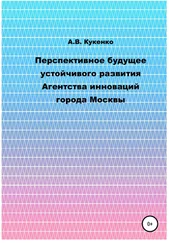И только после гибели Шойбнера-Рихтера во время «пивного путча» (23 ноября 1923 г.), когда бразды идеологического правления в НСДАП перешли к другому выходцу из России А. Розенбергу, завсегдатаю ряда социал-демократических кружков, лично знакомому с Троцким, нацизм стал трансформироваться в полноценное революционное течение. И в конце концов принял хорошо знакомый нам человеконенавистнический облик.
Постараемся быть правильно понятыми. Раскрывая эти подробности, мы отнюдь не становимся на сторону Шойбнера-Рихтера и его немецких коллег по разработке этих планов. Более того, их взгляды нами не могут оцениваться иначе чем реакционные ввиду двух обстоятельств. Первое: происхождение обеих германских династий — протестантских Гогенцоллернов и католических Габсбургов — было несовместимо с православием, которое находится в основе русской монархической традиции. Второе обстоятельство — укрепление к тому времени в России Советской власти. Крах «Aufbau» явно не был случайным и не объяснялся одним лишь неблагоприятным стечением исторических обстоятельств и экзотичностью предложенной его создателями транснациональной и надконфессиональной проектной конструкции. Подчеркнем это еще и потому, что кое-кто и сегодня предпринимает попытки продвинуть эти экуменические, квази-монархические по своей сути идеи под новым соусом континентально-европейского и даже более широкого альянса с участием России, несмотря на их очевидный подрывной для нашей страны характер.
Поэтому первейшая наша задача — не раскритиковать создателей «Aufbau», которые, безусловно, эту критику заслужили. А проследить на этом историческом примере процесс трансформации нацизма из сугубо консервативного течения в консервативнореволюционное.
Следует признать, что своеобразным Рубиконом послужила его внутренняя трансформация, нашедшая отражение в фактической смене идейно-политической платформы — с монархотрадиционалистской, которой придерживался Шойбнер-Рихтер, на социалистическую и одновременно расовую, сторонником которой являлся Розенберг. Неслучайно работу над «Mein Kampf», в основу которой были положены идеи расового превосходства и «социальной гармонии», Гитлер начал только после гибели Шойбнера-Рихтера, во время непродолжительного заключения, к которому был приговорен вместе с Гессом за организацию «пивного путча». Возникает закономерный и, скорее всего, риторический вопрос о том, была ли гибель Шойбнера-Рихтера случайным стечением обстоятельств, или в ней кто-то был заинтересован?
Из этого вытекают два вывода.
Во-первых, каким бы парадоксом это ни казалось, но социалистические и социал-демократические взгляды в отличие — подчеркнем это — от сталинской версии коммунизма отнюдь не противоречат расистским. Случайно ли, например, что вся предвоенная деятельность западных социалистов и социал-демократов, включая совместную с Коминтерном тактику «народных фронтов», так или иначе вела к укреплению позиций Гитлера и гитлеровской Германии, что стало окончательно ясно в ходе гражданской войны в Испании? Да и то, с какой зверской решительностью нацизм расправился с немецким коммунистическим движением, лишний раз доказывает, что коммунизм и социализм, особенно европейский, — два «медведя», никак не уживающиеся в одной политической «берлоге». Или, вернее, в одной нише партийного спектра.
В контролировавшем Коминтерн Советском Союзе быстро это уяснили и, скорректировав вектор внешней политики, от тактики «народных фронтов» отошли. На Западе же все происходило иначе. Чем сильнее укреплялся фашизм, тем прочнее укоренялся в социалистической и социал-демократической среде антисоветский тренд. Поэтому абсолютно безосновательными выглядят упреки в пособничестве нацизму с помощью противодействия социал-демократии, адресуемые И. В. Сталину. Учитывая выявленную нами тенденцию, фактически превращающую социал-демократизм в «предбанник» фашизма и нацизма, вождь действовал правильно, вполне адекватно складывавшейся международно-политической обстановке.
Во-вторых, вектор мутации нацизма в направлении его послевоенной интернационалистской версии, которую мы будем рассматривать ниже (§ 5.3; § 5.4), доказывает еще и то, что в сочетании «национал-социализм» первичным является отнюдь не национализм, а социализм, разумеется в его западном, оппортунистическом, а не коммунистическом прочтении. Следовательно, социализм в нацизме — это неизменная стратегия, в то время как национализм и расизм — не более чем подстраивающаяся под конкретные задачи тактика.
Читать дальше