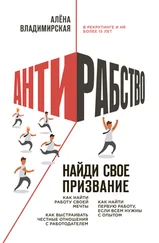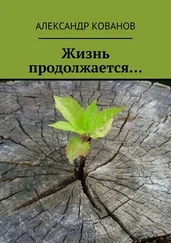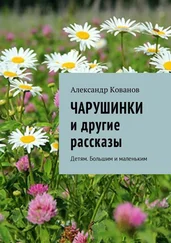Идем по цехам. Сначала самое большое впечатление произвели на меня… ходики. Их здесь сотни, и все они одновременно тикают! В помещении, где комплектуют готовальни, слепит глаза блеск полированного металла.
Самый большой цех на заводе — сборочный. За длинными столами сидят на круглых вертящихся стульях мастера. И каждый из них что-то «колдует» над прибором. Это — «царство» Алексея.
Брату сейчас не до меня. Видимо, получен срочный заказ, и он дает какие-то указания то одному мастеру, то другому, что-то объясняет им по чертежам, выслушивает оперативные сообщения помощников.
Побывав на «Авиаприборе», я еще более проникся уважением к старшему брату. По правде сказать, я не думал, что Алексей и его товарищи имеют столь непосредственное отношение к изготовлению точнейших приборов, которые помогают летчикам на воздушных трассах. Позднее, в середине тридцатых годов, мир потрясла новость: советский летчик Валерий Чкалов совершил беспосадочный полет на АНТ-25 через Северный полюс в Америку. И этот самолет был оборудован навигационными приборами, изготовленными на «Авиаприборе»! Штурман экипажа АНТ-25 опытный летчик Беляков, имевший дело с приборами, заявил при встрече с рабочими: «Приборы, изготовленные заводом «Авиаприбор», не обнаружили никаких дефектов».
Заметив, что я нахожусь под сильным впечатлением от всего увиденного на заводе, брат не без ехидства спросил:
— Ну как, Володька, может, решишься в технику пойти?
Ответил сразу же и чистосердечно:
— Нет. Мне больше по душе медицина; все сделаю, чтобы стать врачом.
И вскоре — вот судьба! — почтальон принес мне открытку из приемной комиссии медфака. Секретарь комиссии А. В. Белов предлагал мне явиться к нему. Иду, конечно.
Секретарь приемной комиссии, пожурив за легкомысленный поступок, дал мне разрешение пересдать математику. Как на крыльях, влетаю в аудиторию и подаю преподавателю — тому самому, который отстранил меня от экзамена, — записку Белова. Удивленно посмотрев на меня, преподаватель стал гонять по всей программе. Но на все вопросы я ответил. Итак, мечта учиться дальше, кажется, осуществлялась…
На первый курс медфака было принято 450 человек, из них больше половины рабфаковцев и фельдшеров. И те и другие зачислялись в университет без экзаменов. Советская республика остро нуждалась в своей интеллигенции. Еще в августе 1918 года В. И. Ленин подписал декрет о «Правилах приема в высшие учебные заведения». Этим декретом отменялась плата за обучение, студенты обеспечивались стипендиями и общежитием. Но главное — в институты в первую очередь принималась молодежь пролетарского происхождения. Партийные организации заводов и фабрик направляли в высшие учебные заведения молодежь, получившую закалку в рабочих коллективах и в рядах Красной Армии.
Рабфаки, организованные в первые годы Советской власти, сыграли огромную роль в пролетаризации высшей школы и послужили, по образному выражению А. В. Луначарского, своего рода «пожарными лестницами», приставленными к окнам вузов, по которым поднималась к высшему образованию пролетарская молодежь. Рабфаковцы коренным образом изменили лицо вузов и внесли с собой в студенческую среду новую, пролетарскую идеологию, высокую сознательность, настойчивость, упорство. «Даешь науку!» — этот боевой клич объединял все пролетарское студенчество.
Большая часть студентов, окончивших рабфаки, поступала в технические вузы, которые были ближе рабочей молодежи по своему профилю. Но немало рабфаковцев решило посвятить себя медицине.
Демобилизованных из армии фельдшеров узнать было нетрудно: ходили они в военной форме, да и выправка их свидетельствовала о службе в армии. Многие были людьми в возрасте, с большим жизненным опытом и стажем работы. Приехали они в университет вместе с семьями, детьми и те, кому повезло, разместились в семейных комнатах студенческого общежития. Среди других рабфаковцев тоже было немало людей средних лет, получивших возможность учиться только после революции. Лишь небольшая часть курса пришла прямо со школьной скамьи. В основном это были, как и я, дети крестьян-бедняков и рабочих.
Медицинский факультет, после физико-математического, считался в университете самым трудным. Пробным камнем для всех была анатомичка: если студент не мог побороть в себе страх и брезгливость, ему на медфаке делать было нечего. Надо отдать должное профессору Удальцову, ректору университета: он беспрепятственно разрешал студентам переводиться на другие факультеты. И, честно говоря, впоследствии я не раз с завистью вспоминал этот порядок: ведь куда лучше, если человек вовремя поймет свою ошибку в выборе профессии и изберет другую, чем будет тяготиться всю жизнь и работать «без огонька», без любви к своему делу. Это касается любой специальности, но медицинской — особенно. Может быть, можно, не любя, налаживать и ремонтировать станок или механизм, лечить людей — нельзя.
Читать дальше
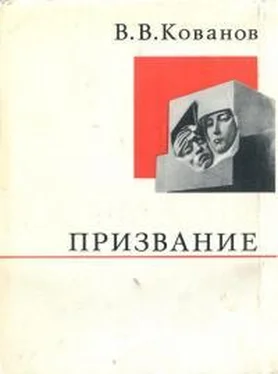

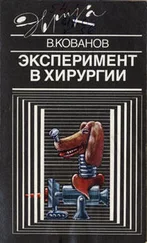
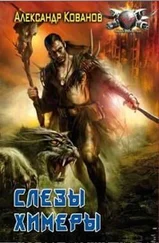
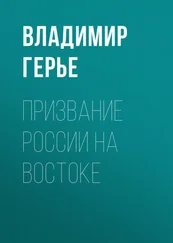

![Алена Владимирская - Антирабство [Найди свое призвание] [litres]](/books/397265/alena-vladimirskaya-antirabstvo-najdi-svoe-prizvan-thumb.webp)