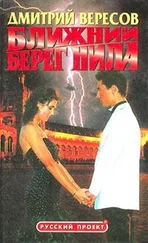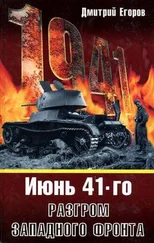Лимфатические узлы мышей с выраженными клиническими проявлениями (не погибших) на 7–8–е сутки характеризовались выраженной гиперплазией центров размножения: превалировали средние и большие лимфоциты, и лишь незначительное количество малых лимфоцитов отмечалось по периферии фолликула. Паракортикальная зона была слабо выражена. В центрах фолликулов обнаруживались гипертрофированные дендритные клетки, по 3–4 в поле зрения, по ходу отростков которых располагались малые и средние лимфоциты. Большое количество активных макрофагов определялось преимущественно в выносящих синусах лимфатического узла. Макрофаги были резко увеличены в размерах, их цитоплазма содержала светлые пузырьки и единичные плотные капельки, хорошо окрашивающиеся эозином. На поверхности макрофагов находились малые и средние лимфоциты, образуя в комплексе причудливые розетки.
Аналогичная гистологическая картина обнаруживалась в лимфатических узлах мышей с незначительными клиническими проявлениями (11–15–е сутки эксперимента), лишь с той разницей, что фолликулы были более четко выражены, паракортикальная зона четко контурировалась, а в выносящих лимфатических синусах большее количество активных макрофагов без признаков дистрофии.
Таким образом, проведенное экспериментальное исследование показало, что на первых этапах развития инфекционного процесса (инкубационный период) происходит выраженная трансформация ткани лимфатических узлов преимущественно тимус–независимой зоны и клеточных элементов синусов, характерная для первичной антигенной стимуляции. Антигенпрезентирующими клетками преимущественно являются активированные макрофаги, в меньшей степени – дендритные клетки. На следующих этапах развития болезни (11–15–е сутки) происходит активация тимус–зависимой зоны лимфатического узла, резкое увеличение количества фагоцитирующих макрофагов.
Характерной особенностью морфологических изменений в лимфатических узлах мышей, погибших в процессе эксперимента, является слабая реакция макрофагальных и эндотелиальных элементов в краевых, промежуточных, мозговых и воротном синусах; преобладание неактивированных форм лимфоцитов (мономорфная картина); выраженные дистрофические и некротические изменения лимфоидных элементов; отсутствие активности антигенпрезентирующих клеток.
5.2. Морфологические изменения в органах и системах у умерших от лихорадки Западного Нила
Первые крупные эпидемии ЛЗН с поражением ЦНС в виде менингитов и энцефалитов были отмечены в 1957 г. в Израиле (в домах престарелых), в 1966 г. в Румынии, в США (1999–2000), в России (1999–2001).
С июля 1999 г. повышенная заболеваемость серозными менингитами и менингоэнцефалитами обратила на себя внимание органов здравоохранения в Волгоградской и Астраханской областях, Краснодарском крае. Предположение о возбудителе заболевания – вирусе ЛЗН – обосновывалось наличием природных очагов вируса ЛЗН в дельте Волги и почти ежегодных спорадических заболеваний людей (Астрахань, 1963). Этиология вспышки была доказана выделением от больных людей вируса, по антигенным свойствам близкого к вирусу ЛЗН.
С начала июля по сентябрь 1999 г. в Волгограде и Волгоградской области по результатам патологоанатомического вскрытия было зарегистрировано 34 случая менингоэнцефалита, из которых 18 случаев были идентифицированы как заболевание ЛЗН (Волгоград – 25, г. Волжский – 5, г. Котельниково – 1, г. Урюпинск – 1, г. Краснослободск – 2).
В табл. 6 приведены данные о поле и возрасте умерших, из которых видно, что по половой принадлежности мужчины и женщины распределились практически в равном количестве. Около 70% умерших старше 60 лет.
В табл. 7 представлены данные по длительности заболевания.
В табл. 8 указаны районы Волгограда и Волгоградской области, в которых зарегистрированы летальные исходы от менингоэнцефалитов.
Макроскопическое исследование головного мозга во время патологоанатомического вскрытия показало, что у всех умерших отмечалось умеренное и выраженное напряжение твердой мозговой оболочки. Со стороны мягкой и паутинной оболочек отмечались явления отека и резко выраженного полнокровия сосудов, в 1 случае у умершего мужчины 77 лет мягкие мозговые оболочки были тускловаты, в бороздах – слегка мутноватая жидкость. Сосудистые сплетения боковых желудочков у половины умерших были спавшиеся, в остальных случаях – обычные. Во всех случаях вещество мозга на разрезах было влажное, блестящее, однородное, рисунок четкий, ткань мозга слегка прилипала к ножу. Легкие у всех умерших были тестоватой консистенции, темно–красного цвета, с поверхностей разрезов стекало обильное количество пенистой жидкости с незначительной примесью крови. Слизистая трахеи и главных бронхов у половины умерших была гиперемированная, у остальных – бледно–розовая. Миокард был дрябловатый, светло–коричневый, с бледными очагами, имел место мелкоочаговый кардиосклероз. Во всех случаях отмечалась дряблая консистенция печени и почек, у половины мерших ткань печени на разрезах имела рисунок типа «мускатного ореха», у остальных была красновато–коричневого цвета, отмечалось резко выраженное полнокровие ткани почек. Таким образом, макроскопическая картина не имела каких–либо выраженных особенностей.
Читать дальше
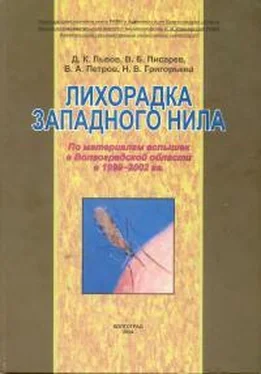
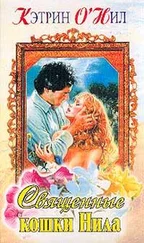
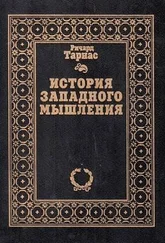
![Ноэл Кауард - Сенная лихорадка [другой перевод]](/books/79184/noel-kauard-sennaya-lihoradka-drugoj-perevod-thumb.webp)