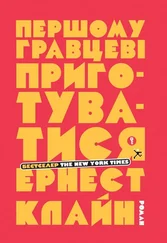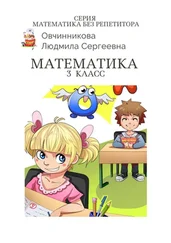Характерно даже название, которое дал Харди своему учебнику [110] (классического) математического анализа. [Заметим, что, вероятно, не меньше 90% всех упоминаний имени воинственного адепта «чистой» математики Харди в современной научной, научно-популярной и учебной литературе связано не с его на самом деле выдающимися достижениями в теории чисел, а с единственным «греком» — с выполненной в молодости несложной работой прикладного характера (так называемый закон Харди — Вейнберга популяционной генетики — см., например, [111]).]
Этот тезис можно и оспаривать: так, например, в теории кодирования, имеющей огромное прикладное значение в условиях современной недостаточности пропускной способности большинства линий связи, большую роль играет абстрактная алгебра (в частности, так называемые конечные поля Галуа ), конечные геометрии (геометрии в плоскостях или пространствах, содержащих всего конечное число точек) и прочие разделы «абстрактной» математики, созданные вне всякой связи с возможными их приложениями (ср., например, [112] или статью [113]). Также и такие области математики, как топология или алгебраическая геометрия, (не говоря уже о функциональном анализе ), совсем еще недавно считавшиеся чисто абстрактными, в последнее время стали активно изучаться (и применяться) физиками (см., например, [114]; ср. [103]).
Стоун, видимо, имел в виду совершенно новые разделы математической науки (математическую теорию связи, или теорию информации; теорию кодирования; теорию игр ), возникшие сравнительно недавно в связи с их применениями, в далее развивавшиеся как чисто абстрактные области знания, бурный прогресс которых, безусловно, стимулировался возможностями немедленного использования полученных в этих направлениях результатов (осуществляющегося, однако, чаще всего, не математиками, а техниками, экономистами или биологами).
SIAM [Society for Industrial and Applied Mathematics] Review, October 1962, pp. 297-320.
Классический пример, подкрепляющий высказанную мысль, доставляет нам хотя бы теория пределов, начавшаяся с принадлежащей Ньютону «чисто физической» концепции предела; также и первое определение предела, данное Д'Аламбером в одноименной статье знаменитой «Энциклопедии», с нашей сегодняшней точки зрения было дефектным (так, например, Д'Аламбер настаивал на монотонном приближении переменной величины к своему пределу). Ныне же мы имеем много разных определений этого понятия с разными областями применимости. (О другом примере такого рода — лейбницевском исчислении дифференциалов — ниже говорит сам автор.)
Напомним, что в те времена под словом «геометрия» часто понималась вся математика.
Довольно распространенным ныне является такое «определение» (математического) доказательства: доказательство — это рассуждение, которое убеждает нас в справедливости теоремы. При этом вполне допустимо (и даже неизбежно) сосуществование в одной стране и в одно время совершенно разных уровней строгости допустимых доказательств в зависимости от научных школ или даже математических дисциплин (скажем, математическая логика и дифференциальная геометрия).
Карл Раймунд Поппер выдвинул также так называемый принцип фальсификации (опровержимости), согласно которому критерий научности теории задается возможностью опытного ее опровержения.
Название книги Клейна (Elementarmathematik vom höheren Standpunkte aus) точнее было бы перевести как «Элементарная математика с высшей точки зрения». — Прим. ред.
Ср. со сказанным в гл. VIII.
Противоположной точки зрения придерживался Гильберт — см. приведенную вышецитату из его статьи «О бесконечном» или с. 22 книги [51]. Популярно также известное высказывание А. Эйнштейна: «Самое непостижимое во Вселенной — это то, что она все-таки постижима».
Ср. с примечанием {6}к Введению.
Здесь естественно вспомнить о знаменитом физическом принципе неопределенности Гейзенберга, одна из распространенных интерпретаций которого говорит о неизбежном изменении физической интуиции при попытке ее наблюдения, скажем, об отклонении частицы от первоначального положения при падении на нее фотона света, без чего частицу нельзя увидеть. Аналогично этому филологи иногда говорят об определенной деформации природного явления при описании его на том или ином языке (Аристотель говорил о бесконечности природных явлений и конечности числа слов любого языка) и т.д.
Читать дальше
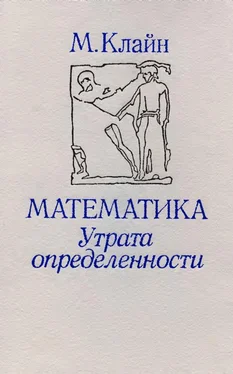

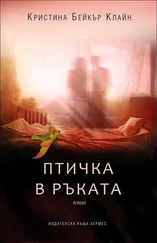
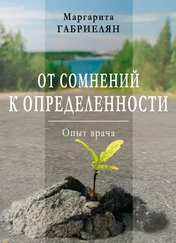
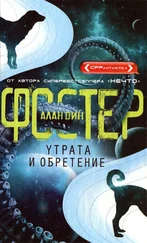
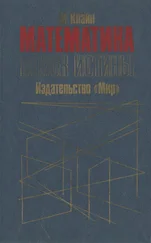
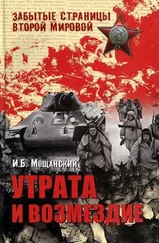
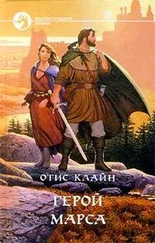
![Т. Клайн - Церемонии [litres]](/books/395680/t-klajn-ceremonii-litres-thumb.webp)