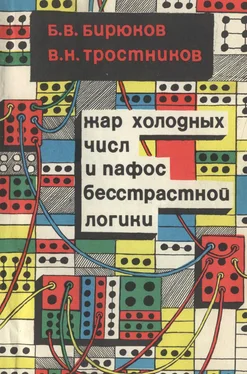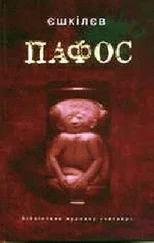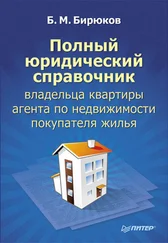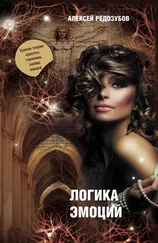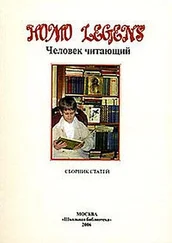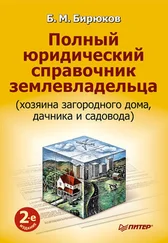Как относиться к таким высказываниям? Математика, действительно, являясь ярчайшим подтверждением силы человеческого разума и неисчерпаемости человеческого воображения, в то же время может быть названа, если позволительно так выразиться, одним из самых деловых занятий: результаты математики говорят сами за себя, фирма с названием «математика» имеет мировую известность как фирма, дающая стопроцентную гарантию своей продукции. «Сделано математикой» — означает для всех «сделано на века». Поэтому математика не может позволить себе необоснованного риска заниматься выпуском изделий, которые могут вызвать сенсацию, а потом оказаться недоброкачественными. У нее есть собственная технология производства, оправданная двухтысячелетней практикой. Все это мы должны иметь в виду при рассмотрении вопроса о том, почему лейбницева идея автоматизации рассуждений с таким трудом пробивала себе дорогу: Лейбница отделяет от Буля полтора столетия, но ведь даже работы Буля и его школы были лишь деятельностью энтузиастов и не привлекали внимания современников.
Но мы знаем, что все упиралось в формализацию логики — необходимо было выработать символику и процедуры преобразований знаков, позволяющие эффективно проводить логический анализ. Лейбниц только собирался преодолеть этот барьер, но так и не осуществил своего намерения. Буль и его последователи расчистили многие препятствия, но они работали как одиночки, не увлекали за собой других математиков, не получили их поддержки. Даже труды Г. Фреге — этого титана логико-математической мысли, о вкладе которого в логику и основания математики мы скоро будем говорить появившиеся в конце прошлого века, не обратили на себя внимания.
А по своим потенциальным возможностям математика в середине XIX века уже в значительной мере созрела для того, чтобы приступить к уточнению программы Лейбница. Надо было только «навалиться всем миром», заострить на этой проблеме внимание, как когда-то оно было заострено на задаче о проведении касательной к данной линии, решая которую, Ньютон заложил основы дифференциального исчисления.
Но ничего подобного сделано не было. Ни одна академия не поставила проблему «искусственного мышления». Это выглядело бы в то время несерьезно. Даже «привязанные» отчасти к теории вероятностей и алгебраизованные по форме исследования Буля воспринимались как вещи, уводящие математику в сторону от основной дороги. Во второй половине XIX века центральными вопросами математики продолжали оставаться вопросы дифференциального и интегрального исчисления и дифференциальных уравнений, образующие область, которая известна как «математический анализ» или просто «анализ». Она возникла в результате открытий Ньютона и Лейбница и получила мощный импульс от их ближайших последователей, великих математиков XVIII и начала XIX в.—Эйлера, Лагранжа и Лапласа. Известно, что импульсы к созданию математического анализа были даны геометрическими и механическими задачами — такими, как вычисление площадей фигур (квадратур), длин кривых, моментов инерции, отыскание траекторий и т. п., решать которые прежними средствами было затруднительно или вообще невозможно.
Сразу же после своего появления анализ показал себя как исключительно мощный по своим возможностям инструмент. Это могущество метода так увлекло математиков, что они стали интенсивно расширять круг задач, решаемых анализом, и совершенствовать его формулы, способные, казалось, описывать и обсчитывать все на свете. Расширение сферы приложений анализа и увеличение его популярности заставляло наиболее вдумчивых математиков ставить задачу его обоснования, не зависящего от приложений геометрического или механического характера [2] 61 2. См. об этом в кн.: В. Н. Молодший. Очерки по философским вопросам математики. М., 1969, ч. II, гл. 2.
. Внутренняя логика развития этой дисциплины ставила вопрос о строгости ее методов — проблему, над которой в первой четверти XIX века работали Б. Больцано и О. Коши и которая занимала умы таких великих математиков, как К. Ф. Гаусс и Н. Г. Абель.
Специалисты того времени по-разному относились к работам по логическому усовершенствованию теоретической части анализа. Конечно, математики не сомневались, что методы анализа дают адекватные результаты, но некоторых из них особенно сильно беспокоило желание установить «согласованность» всей системы его утверждений, то есть его «логическую прочностью. Они считали, что непогрешимость анализа должна быть не такой вещью, в которую приходится верить и которая подтверждается лишь косвенно — безупречной работой аппарата, а такой, которую можно доказать рассуждением. Ответом на эту потребность явился ряд теорий действительного числа — Р. Дедикинда, К. Вейерштрасса и Г. Кантора.
Читать дальше