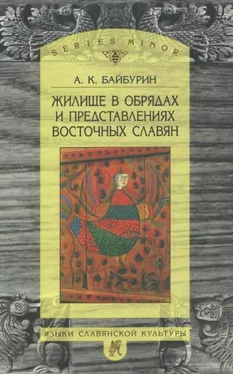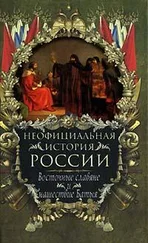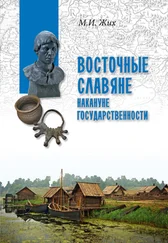Во-вторых, и конь, и петух наделялись апотропеической силой (ср. о петухе выше: «Нечистая сила не подступается к нему»); череп коня использовался в народной медицине для излечения лихорадки, предотвращения моровой язвы среди скота, для чего головы лошадей (и коров) выставлялись на шестах и на кольях ограды [205] Афанасьев А. Н . Поэтические воззрения…, т. 1, с. 635–637.
.
Наконец, и конь, и петух связываются в народных верованиях с огнем и водой, причем оба служат в равной степени символами огня. Если по отношению к петуху это очевидно, то связь коня с огнем может быть прослежена, например, по обряду бросания лошадиной головы в костер в день Ивана Купалы [206] Там же, с. 635.
(ср. огненную природу коня в сказках и характерные данные изобразительного плана и т. п.) [207] См., напр.: Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1946, с. 159 и далее.
. С другой стороны, известны свидетельства о приношении петуха и черепа коня в жертву водяному [208] Афанасьев А. Н . Поэтические воззрения…, т. 1, с. 635.
.
Перечень сходных функций коня и петуха можно было бы продолжить [209] Учитывая, например, близость коня и петуха к дому, к человеку, а с другой стороны — медиационную роль этих животных, к числу показательных взаимообозначений можно отнести и устойчивый образ коня-птицы («крылатый конь») в волшебной сказке и т. д.
, но даже приведенные указания на их изофункциональность позволяют сделать вывод о неслучайном характере использования в качестве жертвы не только коня, но и петуха.
Гораздо меньше внутренней логики в замене живой жертвы предметами (если предположить, что такая замена имела место). Подобного рода замены скорее относятся к области ритуального «синтаксиса». Этот тип замен, во всяком случае на восточнославянском материале, — самый поздний. В семантическом плане подобного рода заменам может быть приписан широкий спектр значений, который необходимо учитывать при изучении общего содержания понятия «дом», так как эти предметы выступают в своей «метонимической» функции, т. е. их содержание в какой-то мере (с точки зрения данного коллектива) должно определять семантику всего дома.
О шерстикак о ритуальном символе мы уже упоминали. Приведенный выше отрывок («…кладут… шерсть — для тепла»), фиксирует практическое значение шерсти. Ритуальное содержание включает такие значения шерсти, как «плодородие», «богатство», что особенно ясно проступает в свадьбе: «Как шуба мохната, так чтобы и вы, детки, были счастливы и богаты»; «Чтобы жених был богатый, как кожух волохатый» [210] Кагаров Е. Г . Состав и происхождение свадебной обрядности. — Сб. МАЭ, 1929, т. VIII, с. 176. О карпогоническом значении шерсти см.: Niederle L . Život starých slovanu. Praha, 1911, s. 79.
(ср. также связь скота и «скотьего бога» — Велеса с идеями обмена, торговли, богатства), а в специфических контекстах (в некоторых моментах свадьбы) и «чуждость», нечеловеческую, звериную (лесную) природу субъекта. Для обрядов закладки релевантны все указанные значения, кроме последнего, однако не следует игнорировать возможность актуализации противопоставления свой — чужой, учитывая его роль в процессе освоения пространства.
Зерно— обычный жертвенный материал, распространенный не только у славян, но и у других европейских народов [211] Jesse W. Bauopfer und Totenopfer, S. 13.
. Оно имеет устойчивую семантику «плодородия», «богатства», связанную с цикличным характером смерти — воскрешения природы. С этой же целью применялась мука («первая мука» в Белоруссии) и хлеб [212] О ритуальной роли хлеба и хлебных изделий см.: Сумцов Н. Ф . 1) Хлеб в обрядах и песнях; 2) Обрядовое употребление хлеба; 3) О свадебных обрядах, преимущественно русских; Krauss F. S . Sitte und Brauch der Südslaven. Wien, 1885; Никольский H. М . Происхождение и история белорусской свадебной обрядности. Минск, 1956; Иванов Вяч. Вс., Топоров В. Н. Исследования в области славянских древностей. М., 1974.
.
По сути дела, дублируют семантику двух предыдущих символов деньги (монеты). Христианская идея святости сочетается с еще одним предметом, закладывавшемся в основание, — ладаном. Наконец, предохранительный характер имеет белорусский обычай класть «свянцоные зелки» или хвойные ветки от «пирунов» (т. е. от молний, пожара), связанный с обширным кругом представлений о боге грозы (Перуне).
Таким образом, семантическое поле данного набора жертвенных предметов включает прежде всего идеи богатства, плодородия (воспроизводства), благополучия коллектива, что является смыслом ритуала вообще, призванного в первую очередь обеспечить благосостояние и воспроизводство коллектива в потомках. Показательны также пересечения с двумя во многом противоположными мировоззренческими системами: христианской (ладан, «святость») и языческой (ветки, связь с Перуном).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу