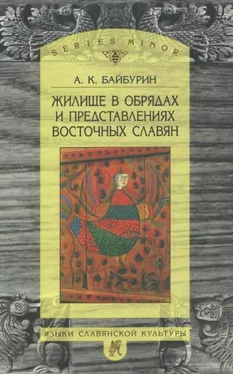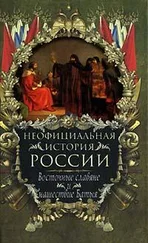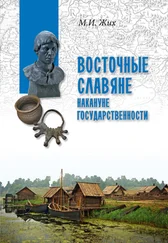Таким образом, в семантическом плане «строительная жертва» была связана со сложным комплексом представлений о сакральности жилища, его «выводимости» из тела жертвы, взаимоперекодировками между жертвой, жилищем и концепцией устройства мира. Но если представления о творении мира из человеческого тела являются общеизвестными и не нуждаются в дополнительных комментариях, то при рассмотрении его замен возникает ряд вопросов, относящихся прежде всего к логике замен. Как мы уже говорили, на славянском материале круг реальных свидетельств о животных жертвах ограничивается конеми петухом (курицей).
«Замену человеческого жертвоприношения приношением в жертву домашнего животного (коня) можно найти уже в древности у разных индоевропейских народов, для которых культ коня был особенно характерен» [196] Иванов Вяч. Вс . Опыт истолкования…, с. 102.
. «Конь как ритуальный эквивалент человека» — этот мотив хорошо известен по данным фольклора и мифологии. Среди них показательны, например, отношения взаимообозначения жених — конь в свадьбе и в волшебной сказке. В свадьбе конь — постоянный атрибут жениха (ср.: конь — помощник героя в сказке). Характерно что термины «князь» и «конь» в свадебной лирике находятся в отношении дополнительности (ср. тексты типа «князь молодой, конь удалой»), а в метаобрядовой лексике слово «конь» является эвфемистическим названием жениха. В связи с общей проблемой дистрибуции ритуальных терминов небезынтересна синонимия терминов «князек» и «конек» при обозначении верхней части крыши, что в контексте проблематики жертвы (конь как замена человека и эквивалент мирового центра, в роли которого для индоевропейской традиции реконструируется образ царя) получает особое звучание. В качестве типологической параллели ср. приводимые Вяч. Вс. Ивановым немецкие (Шлезвиг-Гольштейн) названия коников на крышах — Hengest и Horsa, совпадающие с именами двух братьев-царей [197] Там же. Подробнее об этих терминах см.: Ward D . The Divine Twins. An Indo-European Myth in Germanic Tradition. Berkeley — Los Angeles, 1968, p. 54.
.
Соответствия другого рода (человек — конь — мировое дерево) проявляются прежде всего в плане их ритуально-мифологической трехчастности (передняя, средняя и задняя часть коня, человека соответствуют верхнему, среднему и нижнему миру), которая явилась основой (наряду с четырехчленностью горизонтальной плоскости) внутренней реконструкции архетипа. «Таким архетипом представляется соотнесение жертвы с мировым деревом (или столбом), трехчастность которого соответствует трехчастности жертвы (первоначально, скорее всего, человеческой)» [198] Иванов Вяч. Вс . Опыт истолкования…, с. 97.
. Применительно к жилищу как к модели мира показательно, что крыша венчается изображением конской головы, для которой дом является «телом», а его основание — «ногами» [199] Ср. характерное отождествление северно-русского дома и коня в насыщенной тонкими наблюдениями книге: Чекалов А. К . Народная деревянная скульптура Русского Севера. М., 1974, с. 15–19.
(ср., с другой стороны, указанные лексические соответствия между названиями частей дома и частей человеческого тела).
Возможность появления в качестве жертвы петуха (курицы) была обусловлена, по-видимому, целым комплексом причин, и в частности благодаря некоторым соответствиям ритуально-мифологического характера. В некоторых контекстах петуху и коню приписывались сходные функции. Постоянно отмечается, например, их особая роль в гаданиях, где и конь, и петух выступают в роли прорицателей. Ср. о петухе: «Два раза родился, ни разу не крестился, а первый пророк» [200] Садовников Д . Загадки…, № 943.
; «Петух слывет в народе за „великую птицу“, за „вещую птицу“: — он вещает благодатный вечер и полночь и зорю никогда не проспит. Нечистая сила не подступается к нему: на нем „ангельский чин“, гребень на голове у петуха — корона» (д. Павлицы Рылов. вол. Вязн. у.); «Петух птица воздушная; по божьему повелению он кричит» [201] Завойко Г. К. Верования, обряды…, с. 126–127.
. Общеизвестны многочисленные гадания, связанные с петухом и курицей [202] Даль В . Пословицы русского народа. Т. 7. СПб.; М., 1904, с. 8.
, как и с конем (гадания по ржанью коня, по его топоту и т. д.) [203] Афанасьев А. Н . Поэтические воззрения…, т. 1. М., 1865, с. 634.
. В девичьих гаданиях «завязывают лошади глаза, девка садится на нее: если пойдет за ворота — быть замужем» [204] Даль В . Пословицы…, т. 7, с. 18.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу