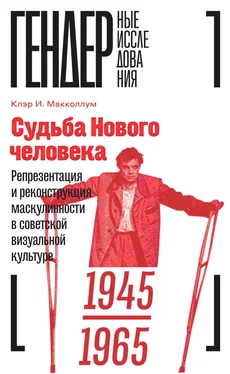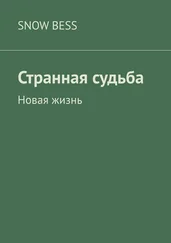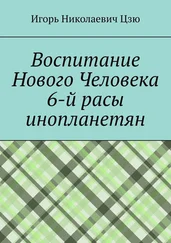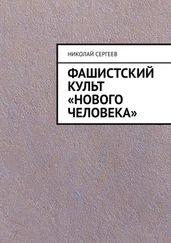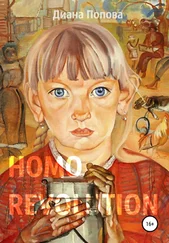Данное обстоятельство вместе с решением поместить мужчину и его ребенка на край холста, в стороне от основного действия, делает этого человека квинтэссенцией советского отцовства начала 1930‐х годов — необязательной фигурой на периферии семейной жизни. Аналогичным образом на картине Кузьмы Петрова-Водкина «Год 1919: тревога» (1934–1935) композиционный центр формируют отношения между матерью и ребенком, поскольку повернувшийся спиной к зрителю отец вновь физически дистанцирован от своей семьи. Можно даже утверждать, что он — совершенно избыточная фигура для этой сцены, поскольку тревога, демонстрируемая женщиной, лишает ее мужа первичной маскулинной функции защитника своей семьи. Поэтому, несмотря на значимость появления (пусть и крайне нерегулярного) фигуры отца, начавшегося в визуальной культуре первой половины 1930‐х годов, данные произведения едва ли можно рассматривать в качестве признака некоего переломного момента в изображении отцовства [413].
В середине 1930‐х годов отношение государства к семье изменилось, что привело к сентиментализации материнства [414]. Но также изменилось и значение роли отца — его функция теперь все чаще рассматривалась как нечто большее, чем просто финансирование семьи. Этот более многогранный взгляд на отцовство получит развитие в годы культурной революции, когда традиционная, имеющая экономическую основу модель отцовства стала сочетаться с представлением о том, что отец является ключевой фигурой в воспитании детей. Это само по себе явно связывалось как с силой советского государства, так и с качествами конкретной личности: быть хорошим воспитателем собственных детей означало теперь то же, что и быть хорошим гражданином. Эту двойственность продемонстрировала проведенная в 1936–1937 годах конституционная реформа: хотя новая Конституция и изменение законодательства о разводах привели к резкому ужесточению мер в отношении тех отцов, которые считались уклоняющимися от своих финансовых обязательств перед семьей, общественная дискуссия по поводу этих законодательных актов способствовала гораздо более широкому осмыслению отцовства. В разгар публичных споров о поправках в законодательстве об абортах «Правда» в июне 1936 года опубликовала статью, рассматривающую роль отца в советском обществе. Традиционная отцовская роль добытчика, сформулированная в терминах финансовой поддержки и обязательств перед обществом, теперь сочеталась с долгом внедрения надлежащей социалистической морали:
Отец, который не может накормить своих детей, дать им элементарное образование, обеспечить их будущее, воспитать их, теряет фактически вместе со своими «правами» всю гордость и счастье отечества… Отец в советской стране — это почетное звание. Это не хозяин в прежнем смысле слова. Это — советский гражданин, строитель нового быта, воспитатель нового поколения… В советских условиях отец — это общественный воспитатель. Он обязан готовить хороших советских граждан, в этом его долг, в этом и его гордость… Позорит звание советского гражданина человек, который трусливо и подло бросает своих детей, бежит от ответственности, прячется по углам и на мать перекладывает полностью все обязанности отца… Советский ребенок имеет право на настоящего отца, на воспитателя и друга[415]. Аналогичным образом В. Светлов, внося свою лепту в «отцовский вопрос», писал, что «хороший рабочий на производстве, хороший стахановец, хороший общественный работник должен организовать свою жизнь таким образом, чтобы у него было время и на семью, и на культурный досуг и образование для своего ребенка» [416]. Таким образом, к концу 1930‐х годов быть хорошим отцом уже не означало просто обеспечивать семью финансово: теперь от отца требовалась активная и вовлеченная роль в жизни его детей. Соответственно, идеальный мужчина больше не был сугубо политическим существом революционного периода. Теперь он должен был проводить время в домашнем пространстве и трудиться на благо советского будущего путем социализации своих детей точно так же, как и посредством своего труда.
Это изменение роли отца было отражено в нескольких художественных работах, появившихся сразу после вступления в силу нового семейного законодательства, — речь идет о картинах «Премия» (1938) Самуила Адливанкина, известной также под названием «Семья на экскурсии», и «Семья командира» (1938) К. С. Петрова-Водкина. Оба эти полотна весьма показательны: советский мужчина, отныне не периферийная фигура семейной жизни, представлен на этих работах как персонаж, имеющий эмоциональную связь со своими детьми. Однако красноречив тот факт, что на обеих этих работах семья изображена в необычных обстоятельствах: премия, полученная отцом с картины Адливанкина, дала возможность совершить необычную поездку, а в работе Васильева само присутствие отца, приехавшего на побывку из армии, трансформирует простую семейную сцену в нечто экстраординарное. Визуальное включение отца в семейные сцены выглядит чем-то особенным.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу