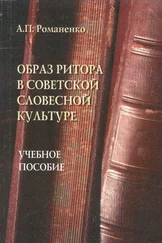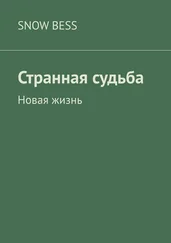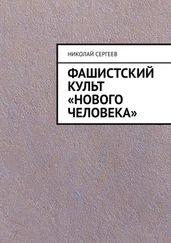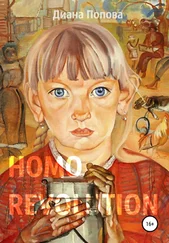ГЛАВА IV. Возвращение домой
ИЗОБРАЖЕНИЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ, РЕИНТЕГРАЦИИ И ЗАМЕЩЕНИЯ ОТЦОВ ДО 1953 ГОДА
Летом 1947 года писатель Джон Стейнбек и фотограф Роберт Капа путешествовали по Советскому Союзу по поручению газеты The New York Herald Tribune, чтобы рассказать американской публике о реальных условиях жизни за железным занавесом. После хлебосольного приема в американском посольстве в Москве Стейнбек и Капа отправились в Сталинград, где в один из дней они, решив осмотреть руины города, и посетили парк неподалеку от главной площади.
Здесь, у огромного каменного обелиска, росло множество красных цветов, а под цветами были похоронены многие из тех, кто защищал Сталинград. В парке было совсем мало народа, одна женщина сидела на скамейке, и маленький мальчишка пяти-шести лет стоял у ограды обелиска и смотрел на цветы. Он стоял так долго, что мы попросили Хмарского поговорить с ним.
Хмарский обратился к нему по-русски:
― Что ты здесь делаешь?
И парнишка безо всякой сентиментальности и совершенно спокойно сказал:
― Я пришел к папе. Я хожу к нему в гости каждый вечер.
Здесь не было ни пафоса, ни сентиментальности. Это была просто констатация факта; а женщина на скамейке взглянула на нас, кивнула и улыбнулась. И скоро женщина с мальчиком пошли через парк обратно в разрушенный город [396].
Жертва, заплаченная Советским Союз за победу в Великой Отечественной войне, не просто известна — она совершенно ошеломительна: согласно официальным источникам, 1710 городов, 70 тысяч деревень и 6 млн прочих объектов были уничтожены, в результате чего без крова остались порядка 25 млн человек. Задача подсчета человеческих жертв во многом была отдана на откуп историкам, и хотя по поводу точного количества жертв по-прежнему нет единого мнения, погибли, согласно самым последним оценкам, 26,6 млн человек — три четверти из них были мужчины, причем большинство из них родились между 1901 и 1931 годами [397].
Незамедлительные последствия этого демографического кризиса ощущались на предприятиях и в колхозах, но наиболее острыми по всему Союзу они были для семей, которые после войны остались лицом к лицу с реалиями жизни с одним родителем, безотцовщины и утраты.
В этой главе мы предпримем попытку рассмотреть, как менялась репрезентация фигуры отца в послевоенной визуальной культуре. Война представляла собой фундаментальный сдвиг в представлении об отцовстве и в его изображении, поскольку защита семьи как мотивирующий фактор в борьбе с фашистами неотъемлемо связывала маскулинность с отцовством и патриотизмом. Этот новый акцент — советский мужчина как семьянин — будет перенесен и в послевоенный период. Однако, двигаясь вслед за этой тенденцией, мы обнаружим, что демографическая реальность послевоенного общества, контрастирующая с образами возвращающихся солдат и воссоединения семей, также признавалась в многочисленных произведениях последних лет сталинского периода через изображение матери-одиночки с детьми и суррогатного отца — самого Сталина.
Воздействие Октябрьской революции на советскую семью, особенно в связи с тем положением, которое считалось подобающим для женщины в новом обществе, давно выступает сферой интересов исследователей-славистов. Этой теме посвящено множество работ [398]. Однако фигура отца красноречиво отсутствовала в подобных исследованиях семьи. Женщин с первых же дней революции охотно изображали в качестве политически активных работниц и матерей, тогда как роль мужчины в создании советского общества главным образом ограничивалась функцией героя-пролетария — персоны, слишком поглощенной масштабной задачей, чтобы на пути у него возникали межличностные отношения или какая-либо частная жизнь. В самом деле, Сергей Кухтерин в своем исследовании советского патриархата утверждает, что семейная политика 1920‐х годов базировалась на союзе государства с матерью и ребенком — союзе, из которого активно исключался отец, поскольку предпринимаемая задача подготовить семейную ячейку к жизни в коллективе была достижима лишь при условии разрушения традиционной патриархальной модели [399].
Впрочем, в годы индустриализации и коллективизации риторика, связанная с социальной ролью мужчины, ощутимо изменилась. Этот сдвиг можно рассматривать в рамках сложной конструкции, включающей возникновение патерналистского культа Сталина, политику поощрения рождаемости [400], формирование «великого семейного мифа» (определение Катерины Кларк) [401] и акцент на культурности, предполагавший восприятие дома как ключевого пространства, где складывался менталитет советских граждан [402]. Возникновение великого семейного мифа, в котором преданность государству превосходила привязанность к биологическому роду, было, по мнению Кларк, связано с озабоченностью общества 1930‐х годов различными врагами — как внутренними, так и внешними [403]. При построении этого мифа межличностные отношения приобрели новую структуру, а горизонтальные связи между фактическими членами семьи становились менее значимы, чем вертикальные связи между личностью и вождем. Тем не менее эти новые взаимоотношения между советским гражданином и патерналистским вождем не должны были полностью вытеснять семейную ячейку, которая теперь преподносилась как микрокосм самого государства и рассматривалась в качестве ключевого элемента в поддержании стабильности советской системы. В культурном отношении схождение всех этих факторов воедино проявлялось в переоценке того, что именно составляло идеал нового советского человека, ведя, помимо прочего, к уходу от революционного представления о массовом героизме пролетариата в направлении единичных образцовых героев, таких как Алексей Стаханов и Валерий Чкалов, чьи имена были известны всей Советской империи.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу