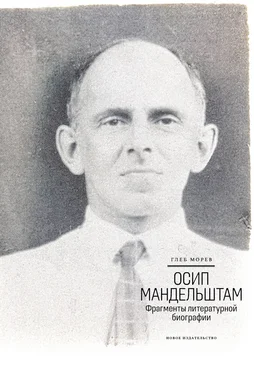Однако писать Сталину о Мандельштаме было некому. Н.Я. Мандельштам вспоминала в последние годы жизни об отказе Пастернака обратиться к Сталину по поводу Мандельштама, относя этот отказ к концу 1935 года [667]. Если эта датировка верна, то речь идет о времени наибольшего сближения Пастернака со Сталиным, выразившегося в написании им большого письма Сталину в декабре 1935-го и посвящении опубликованных в новогоднем номере «Известий» 1936 года стихов. В этот период Пастернак, выстраивавший с 1932 года свою персональную коммуникацию со Сталиным, мог счесть неуместным еще одно обращение к вождю по поводу Мандельштама, напоминающее об их неудачном телефонном общении 1934 года, – учитывая, что неудачу этого разговора он старался исправить в последующей адресации к Сталину осенью 1935 года в связи с арестом Н.Н. Пунина и Л.Н. Гумилева [668]. (К тому же осенью 1934 года Пастернак, как мы знаем из цитировавшегося письма П.Ф. Юдина М.И. Генкину, обращался в Культпроп ЦК ВКП(б) с просьбой о помощи Мандельштаму в ссылке.) Если же речь идет о более позднем времени, совпадающем со временем написания письма Мандельштама Чуковскому, то в 1937 году Пастернак уже испытывает, по его позднейшей формулировке, «чувство потрясенного отталкивания от установившихся порядков» [669]и, по-видимому, считает подобного рода попытки тщетными (в феврале 1936 года он вместе с вернувшейся из Воронежа Ахматовой посетил, прося за Мандельштама, старшего помощника прокурора Верховного суда СССР Р.П. Катаняна).
Сегодня не может не вызывать удивления та настойчивость, с которой, несмотря на очевидное ему изменение политического и социального пейзажа [670], Мандельштам продолжал добиваться признания своей работы Союзом советских писателей – при том что эта позиция, сколько можно судить, не находила понимания ни у его ближайших друзей, таких как Ахматова (придерживавшаяся противоположной схемы литературного и социального поведения) [671], ни у Пастернака (служившего в последний период для Мандельштама своего рода ролевой моделью), ни в его собственной семье. Еще в конце 1935 года Н.Я. Мандельштам писала мужу по итогам московских союзписательских хлопот:
<���…> дальше – только покориться неизбежности… И жить вместе в Крыму, никуда не ездить, ничего не просить, ничего не делать. Это мое, и я думаю, твое решение. Вопрос в деньгах, но и он уладится. Может, придется жить на случайные присылы. Тоже лучше, чем мотаться. Правда? Никогда я еще так остро не понимала, что нельзя действовать, шуметь и вертеть хвостом [672].
Как видим, однако, решением Мандельштама это не стало.
«Еще о Старом Крыме: чтоб не было уходом, бегством, „цинцинатством“ Я не Плиний Младший и не Волошин», – ответил Мандельштам жене 3 января 1936 года (III: 539). Идея обустройства эскапистской ниши в провинции (которая спустя три десятилетия будет манифестирована в «Письмах римскому другу» Бродского) для Мандельштама, чувствующего «небывалое доверие ко всем подлинным участникам нашей жизни» [673], была неприемлема. Дальнейшее развитие своей поэзии он, наоборот, впрямую связывает с обретением им после кризиса 1934 года новой лояльности власти и обществу, с чаемой им демаргинализацией, с движением вместе с народом по «дороге к Сталину» (как это сказано в самых последних его стихах). «Хочу двигать язык, учиться и вообще быть с людьми: учиться у них», – пишет он Б.С. Кузину [674].
Думается, что причина этой настойчивости Мандельштама лежит в изначальной «индивидуализации» им своего «дела» 1934 года, в представлении о существующей теперь персональной связи со Сталиным как со своим главным читателем, оценившим его стихи (следствием чего поэт считает смягчение приговора). Испытывая настоящую поэтическую обсессию, связанную со сталинской темой, которой прямо или косвенно вдохновлено около десятка стихотворений 1935-1937 годов, Мандельштам весь руководим идеей донести через сопротивление бюрократов из Союза писателей [675], свой новый поэтический труд до его подлинного адресата и, с его помощью, до «народа советской страны, перед которым я в бесконечном долгу» [676].
Ситуация 1937 _1938 годов, однако, коренным образом отличается от времени середины 1930-х: на общественной сцене больше нет уникальных даже для того времени фигур типа Бухарина, способных быть коммуникаторами между представителями старой беспартийной интеллигенции вроде Пастернака и Сталиным. В стране, чье население, включая политический класс, переживает огромный стресс Большого террора, каналы связи с Кремлем фактически блокированы. Ближайшим проводником высшей политической воли являются репрессивные органы – важнейший инструмент проведения внутренней политики, к которой относится и напрямую связанная с идеологией область литературы. Вполне естественно, что руководство Союза писателей (видимо, после консультаций с кураторами ССП в ЦК партии и НКВД) делегирует ответственность за принятие решения относительно Мандельштама НКВД.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу