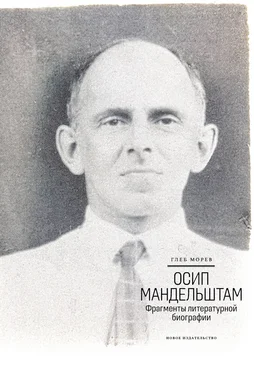Через несколько лет уподобление одной из указанных социальных групп («специалистов») другой («старым мастерам культуры») станет общим местом советской литературной критики. В воронежской ссылке Мандельштам будет читать и обсуждать с С.Б. Рудаковым посвященную Михаилу Зенкевичу статью из журнала «Красная новь» с эмблематичным названием «Поэт и спец», где товарищ Мандельштама по «Цеху поэтов» описывался как «„спец”, старый „довоенный” специалист в области поэтической техники», чьим «„мастерством”, навыками художественного построения, знанием законов словесного равновесия» и т.п. необходимо воспользоваться «при созидании советской лирики» [646].
Принцип такого «прагматичного» отношения к старым специалистам был сформулирован Сталиным, в частности, в его переписке с Горьким еще в конце 1930 года: «<���…> людей раскаявшихся и разоружившихся советская власть не прочь помиловать, ибо она руководствуется не чувством мести, а интересами советского государства» [647]. К 1934 году, с общим военно-экономическим укреплением режима, эти настроения только упрочились – в ноябре 1933-го зампред ОГПУ Г.Г. Ягода убеждал молодого писателя Григория Гаузнера: «Мы самое мягкосердечное учреждение. Суд связан с параграфами, а мы поступаем в связи с обстановкой, часто просто отпускаем людей, если они сейчас не опасны. Мы не мстим» [648]. Уточнение «сейчас» является ключевым – сталинская репрессивная политика всегда строилась исходя из конкретной политико-экономической ситуации. В ситуации 1934 года квалифицированные мастера, и в том числе «инженеры человеческих душ», «специалисты в области поэтической техники», могли рассчитывать на определенные привилегии.
Если суммировать, то из письма Бухарина Сталин получил следующие сведения: арестован и выслан из Москвы «первоклассный», но «абсолютно несовременный» поэт Мандельштам. Аресту предшествовал конфликт Мандельштама в писательской среде (в частности, «драка» с Алексеем Толстым); в ссылке Мандельштам пытался покончить с собой, он болен. К Бухарину обращаются в связи с делом Мандельштама, но у него нет никакой информации, ОГПУ в лице зампреда Агранова молчит. И наконец, в постскриптуме Бухарин сообщал, что происходящим с Мандельштамом чрезвычайно взволнован Борис Пастернак.
Несмотря на то что Сталин, по всей вероятности, плохо знал, кто такой Мандельштам, характеристика Бухарина («первоклассный, но абсолютно несовременный поэт») вкупе с информацией о резонансе, вызванном арестом, однозначно помещала его в категорию «старых специалистов»/«контрреволюционных писателей – мастеров художественного слова». Информация Бухарина нуждалась, однако, в проверке – самым естественным жестом было проверить ее у упомянутого в письме Пастернака, чье имя как одного из заметных советских авторов Сталин, вплотную занимавшийся контролем за подготовкой Первого съезда писателей, знал.
Таким образом, телефонный звонок Сталина Пастернаку состоялся, по нашему мнению, не только до 10 июня 1934 года, когда был пересмотрен приговор Мандельштаму, но и до вынесения резолюции на письме Бухарина – явившись важнейшим элементом выработки этой самой резолюции.
Избегая здесь подробного анализа разговора Сталина с Пастернаком, предпринятого нами в другом месте [649], отметим, что, как представляется, смысловым центром диалога вождя с поэтом был вопрос о том, является ли Мандельштам «мастером». В этом мы полностью солидаризируемся (в отличие от Л.С. Флейшмана [650]) с чрезвычайно проницательной, на наш взгляд, интерпретацией А.Д. Синявского, который еще в 1975 году на пастернаковском коллоквиуме в Серизила-Сале говорил: «Для Сталина, конечно, это не было вопросом таланта. Но Сталин знал, что „мастеров надо уважать и ценить": это ценный „кадр" – мастер. <���…> Он думал: „ценный кадр или не ценный кадр?" Сухой, деловой вопрос. <���…> Сталину была нужна одна деталь – о Мандельштаме („кадр или не кадр") – и больше ничего» [651]. Не приходится сомневаться, что в вопросе о том, «мастер» ли Мандельштам, со стороны Сталина имела место органичная в устной речи эллиптическая конструкция и понятие «мастер», употребленное им, отсылало к тем самым «мастерам художественного слова», учиться у которых Сталин призывал писателей-коммунистов. Характерно, что для Пастернака сталинская логика и этот «реабилитирующий» Мандельштама контекст, восходящий в конечном счете к секретному решению Политбюро 1931 года, понятным образом остались неочевидными – поэт и вождь разговаривали фактически на разных языках. Но, несмотря на попытку Пастернака уйти от темы, связанной с чуждой ему техницистской теорией «мастерства», и установить прямую содержательную (то есть не зависящую от конкретного дела Мандельштама) коммуникацию со Сталиным «о жизни и смерти» – что, в свою очередь, встретило резкое неприятие со стороны вождя, прервавшего разговор, – его ответы в целом не противоречили предоставленной Бухариным информации.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу