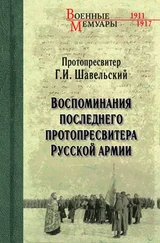Выступив после Тимошенко, я подверг критике двойственность церковной политики «Живой церкви», с одной стороны как будто отрекающейся от прошлого, с другой – возрождающей грехи старой Церкви, хотя и в новой форме. Чем она выдвинулась, кроме захвата власти? Ничем. Все каноны и догматы старой Церкви она сохраняет в силе. Красницкий озабочен лишь бытом белого духовенства, которому революция должна почему-то предоставить лучшие условия жизни. Введенский «трогательно» настаивает лишь на том, чтобы священники… чаще, по возможности ежедневно, приобщались, как будто это может что-то изменить в их деятельности. А где же подвиги и истинные достижения «Живой церкви»? Где ее порыв вперед? Где страдания за народ? Где митрополиты Филиппы и Нилы Сорские в ее среде? Где мученичество и пламень веры? Мы их не видим! Если митрополит Введенский, как он сам рассказывал об этом, накричал на старика патриарха Тихона, то в этом еще небольшой подвиг. Нет, настоящей жизни в «Живой церкви» нет! Она – плоть от плоти и кровь от крови старой, синодальной Церкви, прислуживавшейся к царскому правительству, и истинной реформы в церковную жизнь не внесет. Надо не только проявить властолюбие, но усвоить подлинные заветы Христа и самоотверженно служить им, – только тогда может оказаться оправданной претензия на имя живой Церкви! Пока же Церковь остается такой же мертвой, какой она была и при царском режиме.
Гром аплодисментов сопровождал эту речь как в конце ее, так – не раз – и в середине. Аудитория как будто, наконец, что-то выяснила для себя. Пышное красноречие талантливого Введенского, с его Реми де Гурмонами, как будто поблекло. Да простится мне, что я теперь, через 30 лет, так пишу об этом: это – не столько от тщеславия, сколько от того же еще не умершего энтузиазма веры, которым я был объят тогда в аудитории.
Речь, в самом деле, растормошила публику. (Конечно, я привел ее лишь в самом кратком и приблизительном изложении.) Дома обнял и расцеловал меня, приподнявшись на своей постели, истинный «виновник» моего выступления Мотя Хорош. Тимошенко, при случайной встрече на другой день, говорил:
– Куда нам до «толстовцев»! Орлы, орлы!..
Но только вот что. Почему, еще стоя на эстраде, я заметил среди аплодировавшей публики нескольких старых, бородатых батюшек? Радостное, оживленное лицо одного из них помню до сих пор так, как будто бы я его видел вчера. Чему они радовались?! Ведь я же бранил не только новую, но и старую Церковь, а они мне хлопают. В качестве кого? Уж не в качестве ли врагов революции?
И вдруг острым холодком потянуло по сердцу. Только в этот вечер и впервые мне пришло в голову, что моим речам могут радоваться и контрреволюционеры, и именно потому, что они – контрреволюционеры, тогда как сам себя я контрреволюционером не считал.
Аплодисменты длиннобородого «батюшки» впервые призвали меня «к порядку», вернули к разуму.
К сожалению, было уже поздно.
Через два месяца я покидал Родину.
Глава 8
Прощание с Москвой
Предложение об отъезде за границу. – Горе. – Сборы. – Как жена «продала» мое зимнее пальто. – Отказ Германии в визе. – Чехословацкая виза. – Прощальное собрание в музее Толстого. – Адрес с рисунком худ. М. В. Нестерова. – Взгляд назад – московские эмоции: К. С. Станиславский, М. А. Чехов, литературный обед у И. А. Белоусова, писатели И. Шмелев, Н. И. Тимковский и А. С. Серафимович, операция матери и «малодушие» проф. В. Ф. Снегирева, расцветание дочки… – Вечер в мою пользу в консерватории, устроенный Т. Л. Сухотиной-Толстой. – «Сказка о фарфоровой кукле» Л. Н. Толстого. – Великая Нежданова, Моцарт и … братец Иван Колосков. – Последнее московское глубокое эстетическое впечатление. – Проводы на вокзале. – Отъезд.
Не то в конце января, не то в феврале месяце 1923 года мне было предложено отправиться на три года в Германию. О мотивировке такого решения я ничего не узнал. О ней можно было только догадываться.
Как раз перед тем выехала в иные страны большая группа ученых, профессоров разных русских университетов. Люди эти ни в чем особенном не провинились, но считалось, что они неспособны перестроиться и войти в новую жизнь. Говорят, мысль об отправке ученых за границу принадлежала Троцкому. Если это верно, то я могу сказать, что удачной назвать эту мысль было нельзя. Часть уехавших перешла в иностранное подданство, часть объединилась с эмиграцией и усилила ряды врагов советской власти. Оставшись дома, большинство ученых, наверное, все же приспособилось бы к условиям новой жизни и смогло бы стать небесполезным для народа.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу