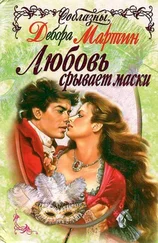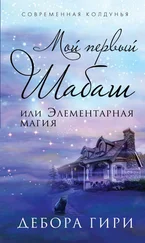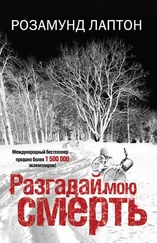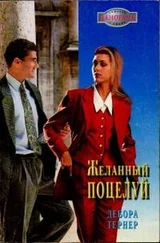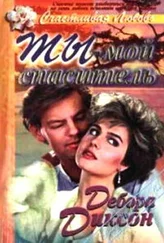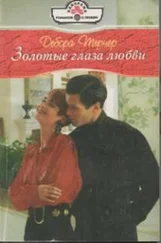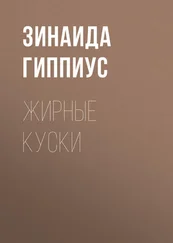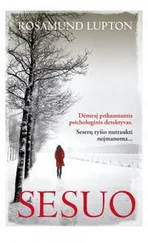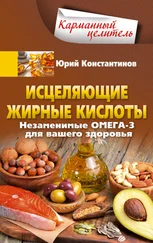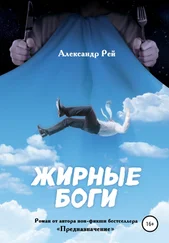Как пишет Ахмад, императив «полюбить себя» в бодипозитивном дискурсе может превратиться в такую же обузу, как и доминирующие нормы, предписывающие самодисциплину и личную ответственность за свое похудение. Эта установка смещает внимание в сторону эмоциональной работы, которую тучные люди должны проделывать, чтобы полюбить себя, отвлекая его от проблемы ответственности других людей за изменение своего мнения и сопротивление социальному фактору фэт-шейминга. Тучные люди, пытающиеся похудеть, продолжающие испытывать негативные чувства по поводу размеров своего тела и укрывающие его от взглядов окружающих, рассматриваются как пособники фэт-шеймеров. Ахмад задается вопросом, что такое бодипозитивный дискурс для тучных людей с низким социально-экономическим статусом, трансгендеров, небелых или инвалидов: что значит «полюбить свое тело» в социально-экономическом и политическом контексте, в котором все эти характеристики усиливают их маргинализацию.
Пробин [Probyn, 2008] также критикует стремление фэт-активизма уделять исключительное внимание позитивным репрезентациям тучного тела в популярной культуре, упуская из виду другие проблемы. Она отмечает, что «семиотический перевертыш» [Probyn, 2008, p. 402], позволяющий отменить смыслы, ассоциирующиеся с тучностью, и «объективировать жир в целях сопротивления» [Ibid., p. 403], не затрагивает политические и социальные основы дискурса ожирения и тучной телесности. Как и другие авторы, по наблюдениям которых фэт-активизм и критические исследования жира слишком часто ограничивают свой анализ критикой дискурса и репрезентации [Guthman, DuPuis, 2006], она призывает к более глубокому и существенному анализу, позволяющему выявить сельскохозяйственные комплексы, производящие и поставляющие на рынок продукты плохого качества, и оценить тот вред, который наносит здоровью людей потребляемая ими пища.
Эти критики считают, что фэт-активистам необходимо признать, что тучная телесность не всегда повод для радости, она может быть причиной негативных физических проявлений (как это произошло с Мюррей, вынужденной подвергнуться бариатрической операции), поэтому необходимо прежде всего изучать последствия для здоровья людей (независимо от их тучности), связанные с экономикой производства, дистрибуции и маркетинга продуктов питания. Они полагают, что одно дело – выявлять и оспаривать дискриминационные установки по отношению к тучным людям, но совсем другое – отрицать наличие затруднений или страданий, связанных с тучной телесностью и с потреблением некачественных продуктов питания, опасных для здоровья. В самом деле, я бы сказала, что неистовый индивидуализм и отрицание любых ограничений, налагаемых политикой борьбы с ожирением, весьма характерные для дискурса некоторых фэт-активистов, утверждающих, что люди могут есть все, что захотят, и обзаводиться телом любых размеров, во многом напоминают дискурс «свободного выбора», продвигаемый либертарианскими скептиками (см. гл. 2), которые устраивают кампании против государственных ограничений, налагаемых на производство, маркетинг и потребление некачественных продуктов питания, под лозунгом свободы от «государства-няньки».
Еще одну точку зрения на эту дискуссию высказывает Керклэнд [Kirkland, 2011], которая критикует то, что она называет «средовым» нарративом ожирения (другие авторы именуют его «жирогенной» моделью), утверждая, что такие феминистки, как Пробин, которые привлекают внимание к структурным причинам ожирения, склонны навязывать свои ценности белого среднего класса представителям социально неблагополучных слоев общества. Керклэнд считает, что при всей своей благонамеренности, подобные попытки граничат с морализаторством, высокомерием и бесцеремонным наказывающим вторжением, поскольку они все равно подразумевают, что представители неблагополучных социальных групп должны принимать «ответственные решения», как только будут устранены предполагаемые «препятствия на пути изменений». Она считает, что подобная критика не принимает в расчет ведущееся в исследовательской литературе обсуждение обоснованности науки об ожирении (см. гл. 2) и просто принимает на веру предположения и допущения традиционных медицинских и здравоохранительных подходов к проблеме ожирения.
Споры в этой области напоминают те, что ведутся в среде критических исследователей и активистов инвалидности. Как уже говорилось в главе 5, некоторые исследователи тучности сравнивают опыт тучных людей и людей с инвалидностью и используют социальную модель инвалидности для объяснения опыта проживания тучной телесности. С социальной моделью тучности или инвалидности очень трудно спорить, приводя доводы, что, возможно, следовало бы признать, что опыт тучной телесности может быть очень обременительным из-за веса и размеров тела. Однако, как отмечает Шейкспир [Shakespeare, 2011] в связи с инвалидностью, если оставить в стороне вопрос о дискриминации, которой могут подвергаться люди с инвалидностью, на уровне повседневной жизни, если говорить откровенно, лучше не быть инвалидом, чем иметь дело с неудобствами, дискомфортом и подчас мучительными хроническими болями. Такого рода заявление весьма неоднозначно воспринимается представителями критических исследований инвалидности, так же как и аналогичное заявление в отношении тучности, особенно феминистскими авторами, пишущими в русле либерально-гуманистической критики, которая настаивает на том, что необходимо принимать, поддерживать и поощрять любые проявления телесности. Тем не менее такую позицию также необходимо учитывать и обсуждать в открытую.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу