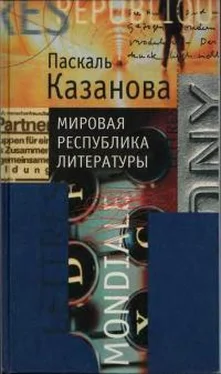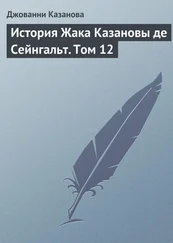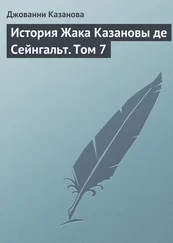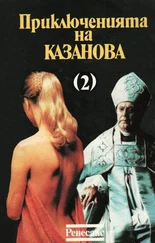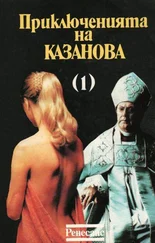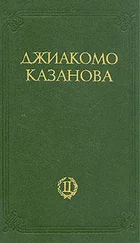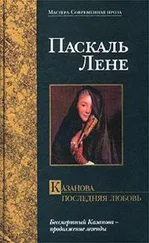Если изменить критическую перспективу, посмотреть на текст издалека, с расстояния, которое позволит охватить взглядом весь ковер целиком, есть шанс увидеть на нем повторяющиеся формы и отметить их сходство или отличие, а значит, уловить те особенности, частички узора, которые критик стремится найти. Предрассудок, состоящий в том, что каждый литературный текст принципиально изолирован, мешает увидеть, как выразился Мишель Фуко, «целостность рельефа», частью которого каждый текст, по существу, является. Укоренившись, этот предрассудок мешает учитывать контекст, то есть всю совокупность текстов, произведений, литературных споров, эстетических дискуссий, с которыми входит в резонанс данное произведение, благодаря чему и возникает его особенность, его подлинная оригинальность.
Изменить точку зрения на литературу («ковер») — значит изменить угол зрения, под которым рассматривается и отдельное произведение. Развивая метафору Генри Джеймса, можно сказать, что исходные элементы «великолепной сложности ковра», загадку которой пытается разрешить критик, нужно искать в неосязаемой, но реальной совокупности всех литературных текстов, благодаря или вопреки которым возникло новое произведение, так как каждая появившаяся в мире книга, по сути дела, часть этой совокупности. Все, что пишется, переводится, публикуется, осмысляется, комментируется и пользуется успехом у публики, суть элементы общей большой композиции. Само же произведение, этот отдельный «узор», можно разгадать только исходя из композиции в целом. Став одной из составляющих общелитературного единства, оно заиграет всеми красками. Литературное произведение может стать уникальным лишь в контексте литературы в целом, потому что благодаря ей оно зародилось и появилось на свет. Каждая написанная на нашей планете книга, которую причислили к литературе, становится крошечной частичкой гигантской композиции, именуемой «мировая литература».
Если принять эту точку зрения, становится очевидным, что наиболее чуждые для данного произведения элементы: чуждые его композиции, форме, эстетическим особенностям, — на деле порождены самим текстом и участвуют в его формировании. Очертания или композиция «ковра» в целом, иными словами, мировая литература как некая пространственная совокупность, одна способна придать смысл формальным особенностям текстов, объединив их между собой. Единство мировой литературы вовсе не умозрительная абстрактная конструкция, это конкретное, хотя и невидимое глазу пространство — обширное поле литературной деятельности, где рождается то, что сочли достойным именовать литературой, лаборатория, где ищут новые пути, спорят о способах и средствах литературного мастерства.
И мы, говоря о мировой литературе, говорим об особой территории, чьи земли и границы не совпадают с политической картой мира, о стране, невидимой для глаз, но доступной всем и каждому, в том числе и самым обездоленным, стране, где единственным достоинством и ценностью является литература. Мы говорим о пространстве, пронизанном взаимодействующими токами, благодаря которым обретают форму тексты, странствующие потом по всему миру. Говорим об особом государстве и порядке, который царит в нем, о его столице, провинциях и окраинах, о языке, который в этом государстве — главное орудие власти. Каждый в этой литературной республике стремится приобщиться к сонму писателей, а особые законы, по крайней мере, в самых независимых областях, ограждают литературу от произвола политики и национальных притязаний. Борьбу в ней ведут соперничающие языки, а революции бывают политические и литературные. Понять историю развития этой страны можно лишь исходя из особого ритма движения литературного времени, а также особого, свойственного литературе, понимания «современности», являющегося своеобразным Гринвичским меридианом литературы.
Разговор о Мировой Республике Литературы вовсе не означает намерения описать все литературы мира или скрупулезно их сопоставить. Речь идет об изменении перспективы, изменении точки зрения, об описании литературы с «определенного наблюдательного пункта» [3] F. Braudel. Civilisation matérielle, économie et capitalisme. Vol. 3. Paris, 1979, c. 9.
, по выражению Броделя, что, возможно, изменит подход к ней критики и откроет в ней то, о чем не подозревают и сами писатели. Мы хотим показать, что законы, которые управляют этой республикой — законы соперничества, неравенства, своеобразной борьбы, — представят в новом, совершенно неожиданном свете самые изученные и много раз истолкованные произведения, в том числе и произведения крупнейших литературных революционеров XX века: Джойса, Беккета, Кафки, Анри Мишо, Генрика Ибсена, Чорана, Нейпола, Данилы Киша, Арно Шмидта, Уильяма Фолкнера и других.
Читать дальше