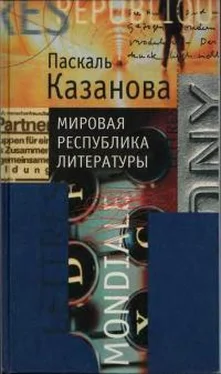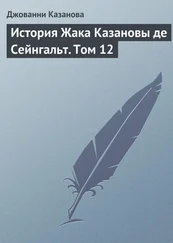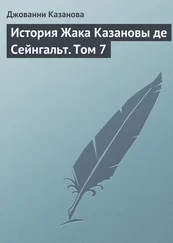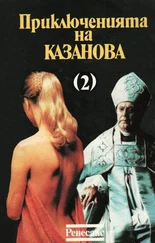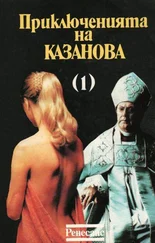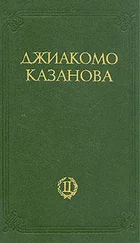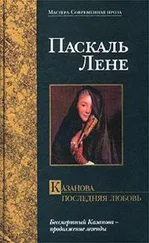«Авторитетность» литературы зависит от следующих факторов: наличия более или менее многочисленного круга профессионалов, узкого круга образованных читателей, интереса просвещенной аристократии или буржуазии, салонов, специальных журналов и газет, престижных книжных серий, взыскательных, конкурирующих между собой издателей, компетентных первооткрывателей с национальной или международной репутацией, — и разумеется, знаменитых и уважаемых писателей, посвятивших себя целиком и полностью своему долгу писать. В странах с богатым литературным наследством крупные писатели могут позволить себе стать профессиональными литераторами. «Имейте в виду, — пишет Валери, — для того чтобы культура стала капиталом, нужны следующие условия: во — первых, должны существовать люди, которые будут нуждаться в этом капитале, а во — вторых, эти люди должны суметь им воспользоваться, […] то есть приобрести те навыки, тот интеллектуальный аппарат, те познания и умение применять их на практике, которые позволят им получить доступ к накопленному веками обилию документов» [14] Р. Valéry. Цит. произв., с. 1090.
. Иными словами, капиталом являются также и люди, которые занимаются литературными текстами, осмысляют и переосмысляют их, вживляют в современность, передают дальше. Капитал составляют также всевозможные учреждения, академии, жюри, журналы, критика, литературные школы, если они многочисленны, давно существуют, и их мнения и оценки пользуются авторитетом. В странах с большим литературным наследием постоянные участники литературного процесса ежедневно и ежечасно насыщают новой жизнью это наследие.
Уточняя и подтверждая анализ Поля Валери, обратимся к «индикаторам культуры» Присциллы Кларк, она ввела их, чтобы сравнивать литературные процессы разных стран и определять реальный объем национального литературного капитала. Такими индикаторами она считает количество книг, публикуемых каждый год, количество проданных книг, время, имеющееся для чтения у населения, помощь, оказываемую писателям, а также количество издательств, книжных магазинов, портретов писателей на банковских билетах, марках, количество улиц, носящих имена знаменитых писателей, количество колонок в газетах, посвящаемых книгам, количество времени, отведенного для книг в телевизионных программах [15] Исследование проводилось для многих стран Европы и США, и всякий раз Франция оказывалась наиболее «литературной» страной с наиболее значимым объемом литературного капитала. Например, Франция, 1973: 52,2 названия на каждые 100 ООО жителей, США — 39,7 названия на 100 ООО жителей. По анкете, проведенной в 81 стране, средние данные от 9 до 100 названий на 100 000 жителей, 51 страна публикует менее 20 названий на 100 000 жителей. Priscilla Parkhurst Clark. Literary France. The Making of a Culture. 1987, c. 217.
. Хорошо бы прибавить к ним еще и переводы. А также показать, что «интенсивность культурной производительности и количество распространяемых идей», пользуясь выражением Валери, зависят не только от литературы как таковой, но и от сотрудничества писателей, музыкантов и художников, иными словами, от совмещения разного рода творческих капиталов, что приводит к взаимообогащению.
В странах, лишенных литературных традиций, литературный капитал мал или полностью отсутствует. Бразильский литературный критик Антонио Кандидо следующим образом описывает «слабость культуры» Латинской Америки, перечисляя по пунктам отсутствие того, о чем мы только что говорили выше. Кандидо пишет: «Малое число читателей растворено в огромном количестве людей совершенно неграмотных, поэтому трудно требовать стабильного интереса к литературе, а еще вернее будет сказать, что он отсутствует. Отсутствуют также средства общения и распространения (издательства, библиотеки, журналы, газеты); писатели не имеют возможности профессионально заниматься литературным трудом, писательство существует либо как дополнение к основной профессии, либо как любительство» [16] A. Candido. Littérature et Sous — développement. L’endroit et l’envers. Essais de littérature et de sociologie. Paris, 1995, c. 236–237. Ниже, коснувшись описания Кафки «малых литератур», мы продолжим анализ их отсталости и бедности.
.
Кроме древности и значительности литературного наследия литературный капитал опирается еще на представительность. «Кредит», которым пользуется «нематериальное богатство», зависит, как считает Валери, от «мирового признания», то есть от того, насколько высоко оно оценено в общемировом масштабе и насколько эта оценка справедлива. Общеизвестно, какое место занимает экономика в поэме Паунда «Песни», в «ABC читателя» он также утверждает существование особой экономики в области идей и литературы: «Каждая общезначимая идея напоминает банковский чек. Ценность ее зависит от того, из чьих рук ее получаешь. Если Рокфеллер подписывает чек на миллион долларов, то это и есть миллион долларов. Если чек на миллион долларов подпишу я, то это будет шуткой, мистификацией, так как этот чек не будет иметь никакой цены. […] То же самое и с чеками из области интеллекта. […] Без рекомендации не возьмешь чека от иностранца. В литературе рекомендация — это «имя» пишущего. 11о прошествии какого — то времени «имя» получает кредит» [17] Е. Pound. ABC de la lecture. Paris, 1966, c. 25. (nep. D. Roche.)
. Идея литературного кредита, высказанная Паундом, позволяет увидеть, насколько в литературном мире ценность взаимосвязана с доверием. Если «имя» писателя становится рекомендацией, если оно становится валютой на литературном рынке, то есть люди верят, что созданное им имеет литературную ценность, что он признан, то этому писателю «оказывают кредит». Кредит, «рекомендация» по Паунду, — это значимость, это возможности, предоставляемые писателю, инстанции, учреждению, «имени», благодаря тому, что в него верят. Вера наделяет возможностями и властью. «Мы такие, — говорит Валери, — какими видим себя сами, и такие, какими другие видят нас» [18] P. Valéry. Цит. произв., с. 1120.
.
Читать дальше