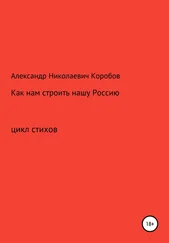Как пишет И.О. Кузнецов, «глубоко показательно, что особенно масштабная кампания о “военной угрозе” была развернута накануне коллективизации» {406} 406 Кузнецов И. О. Социальная психология сибирского крестьянства в 1920-е годы. Учебное пособие. Новосибирск, 1992. С. 73.
. На самом деле, как отмечалось выше, самой масштабной военной тревогой была все же тревога 1927 г.; на вывод исследователя повлияла скорее всего специфика материала: в Сибири кризис на дальневосточной границе, возможно, действительно воспринимался более обостренно, чем события на Западе, но это вряд ли характерно для страны в целом. Любопытно также, что исследователь воспринимает военные тревоги исключительно как результат планомерных кампаний властей, хотя и признает, что «рассматриваемая акция имела непредвиденные для ее организаторов последствия», в частности, «в небывалой степени способствовала оформлению в более определенное русло оппозиционных настроений» {407} 407 Там же.
. На самом деле, как было показано выше, причины военных тревог были гораздо сложнее, и вряд ли возможно жестко привязывать их исключительно к тем или иным мероприятиям властей, скажем, борьбе с оппозицией или подготовке коллективизации, хотя и такие взаимосвязи, несомненно, имели место.
В конечном итоге ни разрыв англо-советских отношений, ни убийства и аресты советских дипломатов, ни высылка из Франции полпреда СССР X. Раковского, ни конфликт на КВЖД не привели к войне. И после этого в массовом сознании происходит постепенный перелом. Ощущение опасности войны отодвигается на второй план (хотя окончательно, конечно, не исчезает) и вытесняется повседневными заботами.
* * *
Обобщая все, что было сказано о «военных тревогах» 1920-х гг., можно выделить их наиболее характерные черты.
Во-первых, поводом для возникновения «военной тревоги» могли послужить любые международные и внутриполитические события; официальные заявления властей или те или иные пропагандистские кампании в прессе; наконец, просто слухи, возникающие, казалось бы, без видимых оснований. В любом случае, однако, «военная тревога» являлась в большей степени спонтанной реакцией населения, чем результатом целенаправленной политики властей. Даже тогда, когда, как в 1927 гг., «военная тревога» была сознательно спровоцирована политическим руководством, ее масштабы, проявления и результаты оказались в значительной степени непредвиденными и даже с точки зрения властей негативными.
Во-вторых «военные тревоги» означали не просто разговоры о войне; как правило, они влияли на поведение населения самым непосредственным образом. Например, начинались массовые закупки товаров первой необходимости, тут же, как правило, приводящие к торговому ажиотажу и росту дефицита; задерживались хлебозаготовки; в некоторых районах крестьяне, опасаясь мобилизации, продавали лошадей, в других — отказывались принимать советские деньги; снижалась общественная активность населения, наиболее «неустойчивые» граждане выходили из общественных организаций (пионерской организации, комсомола, иногда даже из партии) [41] В одной из информационных сводок ЦК ВКП(б) за июнь 1927 г. этому явлению был даже посвящен специальный раздел. См.: ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 5. Д. 26. Л. 21–22.
; отмечались случаи уклонения от службы в армии (вообще в те годы достаточно престижной, особенно для выходцев из деревни), некоторый рост дезертирства, попытки красноармейцев перевестись в нестроевые подразделения.
Очевидно, что и в бытовом отношении «военные тревоги» не оставались без последствий (например, они влияли на определение ближайших планов и расходов в крестьянском хозяйстве или планирование бюджета рабочей семьи), но эти, опосредованные их результаты, проследить достаточно сложно, и в любом случае это не является задачей данного исследования.
И.О. Кузнецов, говоря о последствиях военных тревог для крестьянского сознания, отмечает, что «раздувание жупела военной угрозы содействовало усилению в деревне настроений страха, неуверенности, тревоги, паники» {408} 408 Кузнецов И. О. Указ. соч. С. 73.
. Подобные настроения ярко проявились во время коллективизации и, очевидно, повлияли на ее ход.
Наконец, «военные тревоги» активно использовались для зондирования общественных настроений, в первую очередь, отношения к Советской власти и ее политике и готовности защищать завоевания социализма. Формы этого зондирования могли быть самыми разнообразными (опросы, обзоры писем, анализ материалов информаторов, бюджетные обследования и пр.), но в любом случае его результаты несомненно учитывались в дальнейшем при принятии политических решений самого разного уровня — но и эта тема заслуживает специального исследования {409} 409 О влиянии «военной тревоги» 1927 г. на последующую политику советского руководства см., например: Симонов Н. С. Крепить оборону… С. 161.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
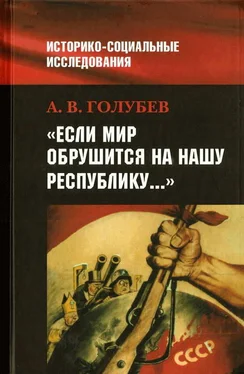


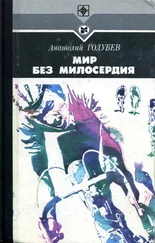
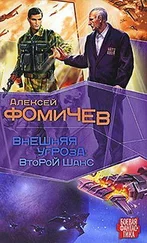

![Михаил Атаманов - Внешняя угроза [СИ]](/books/416906/mihail-atamanov-vneshnyaya-ugroza-si-thumb.webp)