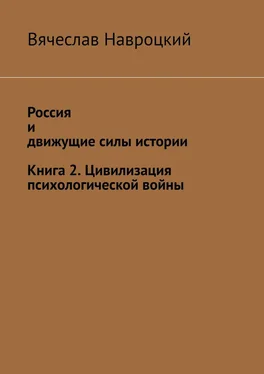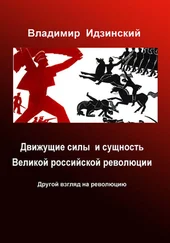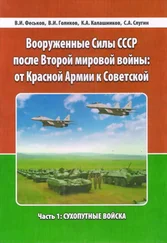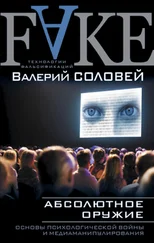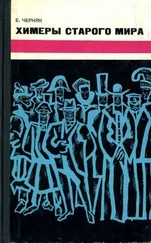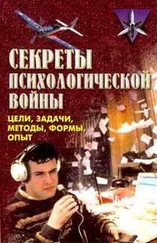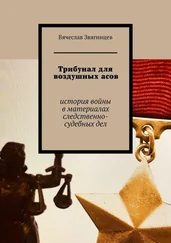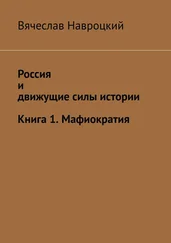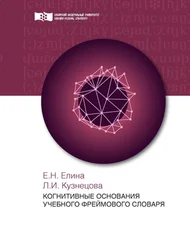Политические писатели Франции не оставили «Размышления» Берка без ответа. Один из откликов, в виде 15-страничного памфлета, пришел от человека, которому Карл Маркс уделил отдельный параграф во втором томе своего «Капитала» – естественно, критикуя его столь же беспощадно, как и всех прочих своих предшественников в области политэкономии. Это был друг и личный врач графа де Мирабо, литератор, экономист и философ Антуан Дестю де Траси (Antoine Louis Claude Destutt de Tracy, 1754—1836). Де Траси был типичным представителем того поколения, которое с детских лет впитало в себя идеи энциклопедистов и видело в революции попытку реализации идеалов «свободы, равенства и братства». Будучи аристократом, де Траси в Учредительном собрании 1789—1791 годов представлял дворянство. После свержения монархии (10 августа 1792) он эмигрировал, потом вернулся, был арестован и вышел на свободу после падения Робеспьера. Все это его несколько отрезвило. Как и многие другие, он понял, что порядок не менее важен, чем свобода и равенство. Но и от лозунгов революции он не отказался.
20 июня 1796 года Дестю выступил в Национальном институте наук и искусств 10 10 Французские интеллектуалы нуждались в организации, которая была бы официальным лицом философских кружков, своего рода посредником между масонскими ложами и официальной властью. Раньше эту роль во всех европейских странах играла Королевская академия наук, однако во Франции она была упразднена Конвентом в 1793 году. Директория, пришедшая к власти в 1795 году, решила эту проблему, одним из первых своих декретов восстановив Академию в виде Национального института наук и искусств, который с 1806 года стал называться Институтом Франции. Членом этого Института стал и молодой Бонапарт, чем он очень гордился.
с докладом «Проект идеологии»; позже он развил свои идеи в «Этюде о способности мышления ( Mémoire sur la faculté de penser , 1798) и четырехтомном трактате «Элементы Идеологии» ( Elements d’ideologie , 1801—1815). В этих работах Дестю, отталкиваясь от трудов, главным образом, Бэкона, Локка и Кондильяка, впервые предложил использовать термин «идеология» для обозначения науки, изучающей причины и законы формирования идей. В его представлении это должна была быть своего рода мета-наука, позволяющая установить твердые основы не только для всех остальных наук, но и для практической политики, экономики и педагогики, и, в конечном итоге, для выработки идеального общественного строя. После выступления Дестю в Национальном институте была создана секция под названием «Анализ ощущений и идей», объединившая людей, которых стали называть «идеологами» (точнее – «идеологистами»: les idéologues ). «Идеологи» исповедовали революционно-демократические традиции, но отвергали террор и потому поддерживали жирондистов. Основу этой группы составили Ланселин, Кондорсе, Сэй, Гизо, Вольней, Тара, Джерандо, Дону, Гара, Женгенэ и Кабанис. Последний вместе с Дестю в 1799 году стал членом Комитета общественного просвещения. Центром их собраний служил дом вдовы Гельвеция в парижском предместье Отёйле. Республика, возникшая из кровавых преступлений революции 1789 года, значительно отличалась от того проекта, который пропагандировали философы-просветители. Не менее далека она оказалась и от проекта позитивистов середины XIX века. Поэтому задача легитимации возникшего порядка была весьма актуальной, и эту задачу перед «идеологами» поставили сначала Директория, а потом и Наполеон Бонапарт.
«Идеологи» приветствовали переворот 18 брюмера 1799 года, поскольку понимали, что дальнейшее продолжение анархии, которую Директория не в силах была ликвидировать, грозило полным и окончательным крушением Франции. Бонапарт, в свою очередь, став Первым консулом республики, назначил членам Института высокое жалованье и произвел Дестю в сенаторы (члены Национального собрания). Первые несколько лет группа «идеологов» играла важную роль в определении политики наполеоновской империи. Однако после 1803 года «идеологи» постепенно стали разочаровываться в Наполеоне, а тот, в свою очередь, потерял к ним доверие.
Почему «идеологи» перешли в оппозицию Наполеону? Узурпировав власть, Наполеон отказался от лозунгов революции, к которым «идеологи» были по-прежнему привержены. Наполеон утверждал, что общественный порядок может быть основан только на жестком ограничении свободы и на имущественном неравенстве. С позиций нашего времени очевидно, что в первом пункте он был совершенно прав, в тех условиях никаким другим способом поддерживать порядок было невозможно. Став Первым консулом, Наполеон немедленно закрыл шестьдесят французских газет, а оставшиеся тринадцать подчинил предварительной цензуре («если бы я дал свободу печати, – заметил он, – моя власть не продолжалась бы и трех дней»). Главным редактором правительственной газеты Moniteur Наполеон назначил самого себя. Второй жертвой преобразований пали законодательные учреждения, которых Наполеон лишил самостоятельности. Для «идеологов», демократов по убеждениям, эти изменения были неприемлемы. Причины, по которым Наполеон охладел к «идеологам», тоже легко понять. Идеология в интерпретации Дестю де Траси превращалась в науку, которая объясняла возникновение любых идей, в том числе политических и социальных, и тем самым лишала их того ореола «святости», который как раз и придавал им силу. Такая наука предвещала бесконечное брожение умов и тем самым бесконечную революцию, что очень полезно для того, кто хочет захватить власть, но вредно для того, кто ее уже захватил. Когда в 1804 году Наполеон провозгласил себя императором и возобновил союз с Ватиканом, он совершенно перестал нуждаться в изучении механизмов возникновения идей. Ему и так было все понятно, а широким слоям интеллигенции, не говоря уже о народе, знать механизмы возникновения идей, по его мнению, было вовсе ни к чему. «Наука об идеях» объясняла возвращение католической религии во Францию совсем не так, как это хотел представить широкой публике Наполеон. Поэтому ему пришлось взять деятельность «идеологов» под жесткий контроль и запретить им распространение результатов проводимой ими работы.
Читать дальше