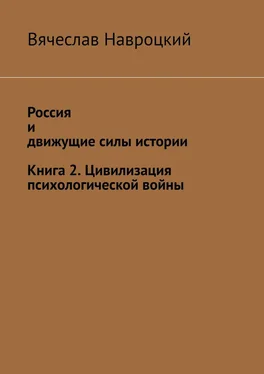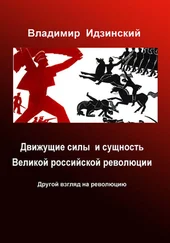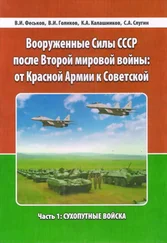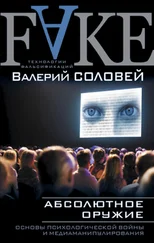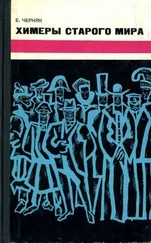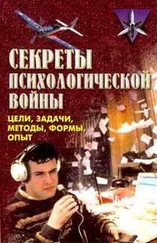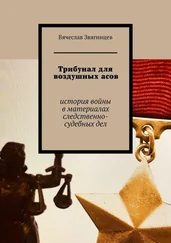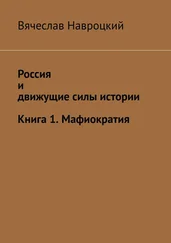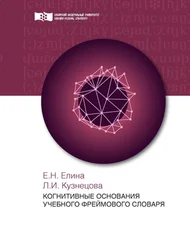На континенте противоречие между выросшей экономической ролью буржуазии и ее ограниченными политическими правами не могло разрешиться столь же легко, поскольку на большей части Западной Европы – во Франции, Австро-Венгрии, Италии, Испании – позиции католицизма и монархического правления были гораздо сильнее, чем в Англии. Однако масонство как инструмент влияния на общественное мнение здесь оказалось для буржуазии еще более полезным. Наращивая свою политическую активность, буржуазия, в союзе с экономически активными представителями церкви и старой аристократии, а также в союзе с различными группами интеллектуалов, искала такую организационную форму, которая позволила бы ей вести борьбу наиболее эффективно. Тандем «масонские ложи – открытые общества» оказался в этом смысле идеальной формой. Масонство давало доступ к высшей аристократии, а «открытые общества» позволяли влиять на настроения широких слоев населения, в том числе и в провинции. Чтобы преодолеть сопротивление существующей политической системы, социально активным группам необходимо было увлечь за собой широкие массы, а сделать это можно было только представив свои интересы как всеобщие и провозгласив своей целью достижение «свободы, равенства и братства». Так началась эпоха Просвещения, во время которой сформировавшаяся в ходе Реформации технология манипуляции массовым сознанием была использована в полную силу.
Апофеозом эпохи Просвещения стала революция в крупнейшей и самой динамично развивавшейся стране континентальной Европы – во Франции. Связь между этими двумя явлениями, Просвещением и французской революцией 1789 года, давно уже стала общим местом исторических трудов. Уже в самом начале XIX столетия Шатобриан назвал эту революцию порождением академий 9 9 Эти слова Шатобриана цитирует Даниэль Рош в статье Une declinaison des Lumieres (Pour une histoire culturelle / Sous la direction de J.-P. Rioux et J.-F. Sirrielli. Paris, Seuil, 1997. P. 21—49). Русский перевод этой статьи опубликован в сборнике «История продолжается: Изучение восемнадцатого века на пороге двадцать первого» («Университетская книга». Международный Центр по изучению XVIII века. Москва – Санкт-Петербург – Ферней-Вольтер, 2001. С. 253—285).
. На связь между Просвещением и революцией указывал в середине XIX столетия Алексис Токвиль; через двадцать лет после него об этом писал основатель культурно-исторической школы Ипполит Тэн. В начале XX века сторонниками этого взгляда были Огюстен Кошен и Даниэль Морне. Последний в своей классической работе «Интеллектуальные истоки Французской революции: 1715—1787» (1933) выделил три закономерности, которым подчинялось проникновение новых идей в общественное мнение Франции XVIII века: 1) идеи движутся вниз по социальной лестнице от высокообразованных кругов к буржуазии, а от нее к мелкой буржуазии и народным массам; 2) идеи распространяются от центра (Париж) к провинциям; 3) скорость проникновения идей в массы увеличивается на протяжении столетия (Mornet 1967).
Ближе к концу прошлого века и в начале нынешнего эти идеи подверглись корректировке. Роже Шартье (Chartier), руководитель исследований в Высшей школе социальных наук в Париже, специалист по истории образования и книжного дела эпохи Ancien Régime, считает, что «отказ от прежних символов и привязанностей, изменяющий отношение людей к власти, которая уже не кажется им божественной и незыблемой, проявляется в широком распространении подпольной литературы, но не производится им» (Шартье 2001, с. 218). Близкую позицию занимает представитель третьего поколения школы «Анналов» Даниэль Рош (Roche), который в 1990—2000 годах был директором Института новой и современной истории (UPR-CNRS). С их мнением можно согласиться в том смысле, что эволюция общественного сознания исключает простые причинно-следственные связи. Возрождение, Реформация, Просвещение и последовавшие за ним европейские революции были не только причиной и следствием друг друга, но и этапами единого процесса развития западной цивилизации в направлении десакрализации власти. Процесс этот порождался множеством различных факторов, взаимодействие которых между собой было настолько сложным, что единственным выходом для историков остается назвать его «стихийным». При таком подходе вопрос о причинах революции вообще не имеет смысла, потому что путь к ней европейская цивилизация начала уже в момент своего зарождения. Об этом прекрасно написал Тютчев в своем незавершенном трактате La Russie et l’Occident («Россия и Запад»):
Читать дальше