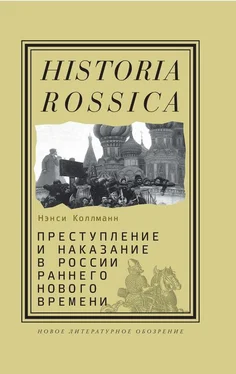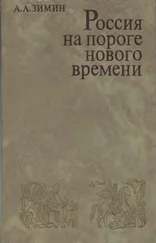Фрол Разин, брат Степана, избежал казни, заявив, что у него есть дополнительная информация об измене (то есть он апеллировал к принципу «о слове и деле»). Его в конце концов тоже казнили в мае 1676 года. И Степана Разина, и самозванца четвертовали. По свидетельству одного русского наблюдателя, «выедя из Земского приказу, на пожаре на площади казнили, четвертовали» [1017]. Пять отрубленных частей их тел были выставлены на кольях. По сведениям источников, части тела Разина были перенесены «на Болото» и выставлены для всеобщего обозрения, по данным одного наблюдателя, «з год», а по данным другого – пока они совсем не разложились. Так или иначе, их можно было видеть в течение двух лет. В 1674 году, согласно вердикту Воробьева, части его тела нужно было перенести «на Болото» через три дня, чтобы присоединить их к разинским. Туловище Разина было брошено псам, а Воробьева захоронено в овраге за городом. Отсутствие информации об исповеди и соборовании вкупе с подобным расчленением тел и последующим их выставлением на всеобщее обозрение свидетельствует о том, что эти мужчины умерли, будучи отлученными от Церкви [1018].
Казни 1653 и 1674 годов были столь же зрелищными, сколь и другие, рассмотренные ранее казни в Московском государстве. Судебный процесс был проведен с ужасающей скоростью, а процедура казни – открыто и в самом центре столицы, что было глубоко символично. По пути следования жертв и в месте казни собрались толпы народа, перед которыми приговоренные к смерти предстали в цепях на телегах, «украшенных» вселявшими ужас орудиями наказания, тела казненных были расчленены и выставлены на всеобщее обозрение более чем на год. Эта была сознательная и безжалостная демонстрация изгнания преступника из общества.
Однако не только государство располагало правом использовать насилие для восстановления справедливости. В случаях когда население Московского государства считало, что правительство вышло за рамки дозволенного и требовалось личное вмешательство царя, он призывался, дабы действовать согласно нормам моральной экономики, которая лежала в основе патерналистской идеологии Московского государства. Толпа, движимая чувством справедливости, применяла насилие открыто и с символическим значением, что влекло за собой кровавые жертвы и душераздирающие страдания.
Символическое значение насилия и моральная экономика
Московские восстания XVII столетия разворачивались как ритуальное действо с участием правителя и народа, которое демонстрировало и проверяло на прочность законность царской власти. Каким бы могущественным ни считался царь, законность его власти зиждилась на представлениях народа о его благочестии, справедливости, милости к бедным и умении слышать свой народ. В мирное время царь обращался за советом к духовенству и боярам, люди подавали челобитные, прося его «смиловаться»; и обычно царское правительство было довольно отзывчивым, а люди – покорными, так что обходилось без насилия [1019]. Вспышки насилия происходили тогда, когда нарушения принимали беспрецедентный характер, налоговое бремя и повинности становились невыносимыми, а правительство оставалось глухим к чаяниям народа. В таких случаях царю приходилось общаться с народом напрямую, принимая на себя роль посредника и судьи, поскольку толпа взывала к традиционному праву о царской милости и прямому общению с государем как отцом народа. Реакция царя была доброжелательной, он несколько раз выходил к толпе, ругал и хвалил людей и шел на уступки по мере развития событий в каждом случае.
Такого рода действо имело место в 1662 году во время Медного бунта, когда толпа, пришедшая из Москвы в Коломенское, царскую загородную резиденцию, требовала облегчить непосильное бремя и предъявила царю список чиновников и купцов-взяточников, имитируя псевдозаконную процедуру челобития. Толпа, по сообщению Патрика Гордона, который был там и, вероятно, непосредственно наблюдал за происходящим, очевидным образом нарушила практику прошения царя о милости, поскольку шумела и проявляла нетерпение при приближении к царю Алексею Михайловичу, когда он «вышел из церкви и сел на коня». Московский посадский человек Лучко Житкой вручил ему письмо, которое было скромно завернуто в его шапку. (Этот же мотив встречается и в сатирической «Повести о Шемякином суде», где ловкий крестьянин так показывает свою шапку судье, что тому кажется, будто в нее завернута взятка.) Котошихин даже сообщает, что «и те люди говорили царю и держали его за платье за пугвицы: „чему де верить?“ и царь обещался им Богом и дал им на своем слове руку, и один человек ис тех людей с царем бил по рукам» [1020]. Царь в ответ «их уговаривал тихим обычаем, чтоб они возвратилися и шли назад к Москве, а он, царь, кой час отслушает обедни будет к Москве, и в том деле учинит сыск и указ». Ни в одном другом источнике нет такой примечательной детали о простолюдине, который схватил царя за пуговицу, тряс за руку и усомнился в его словах. С идеологической точки зрения этот образ показывает, сколь тесной была связь царя с народом. Это был не единственный случай личной встречи царя со своим народом во время политического кризиса. За четырнадцать лет до этого, в 1648 году, толпа также пришла к Алексею Михайловичу прямо в Кремль, когда он шел на церковную службу и обратно; в 1682 году она дошла до личных покоев царя. И во всех этих случаях он находился под защитой харизмы правящей семьи. Толпы народа также не трогали женщин царского рода: в 1648 году восставшие пощадили свояченицу царя; в 1662 году царь советовал боярам прятаться на женской половине, очевидно считавшейся самым безопасным местом; в 1682 году мать и сестры молодого царя снова оказались лицом к лицу с толпой, но их не тронули [1021]. Особое положение царя охраняло его и его ближайших родственников, однако обязывало его держать ответ и идти на любые, даже самые тяжелые уступки.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу