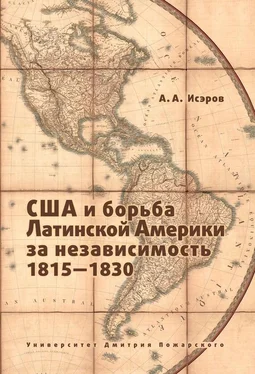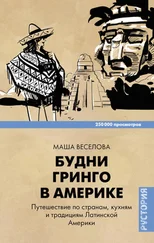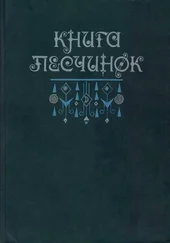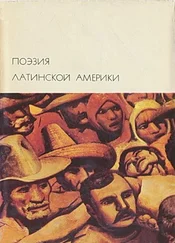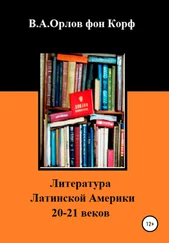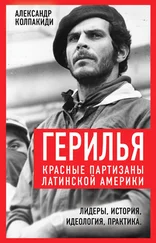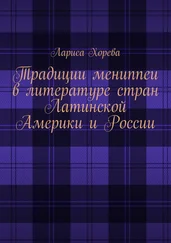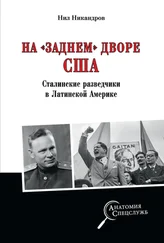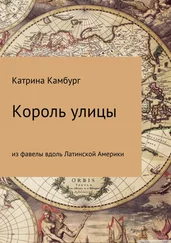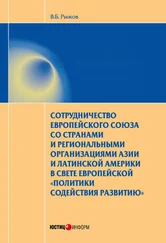Конечно, даже энергичным североамериканцам трудно было конкурировать с главной коммерческой державой XIX столетия. С ослаблением роли метрополии в Латинской Америке свое присутствие там быстро наращивала Англия. Если в 1808 г. английский торговый оборот с Латинской Америкой уступал североамериканскому, то впоследствии положение сильно изменилось. На протяжении 1820-х гг. торговля Англии с Латинской Америкой более чем вдвое превышала торговлю Соединенных Штатов. Иначе и быть не могло: промышленность США была тогда слишком слаба, чтобы удовлетворить спрос потенциальных импортеров. Впрочем, общая доля Латинской Америки в совокупном объеме внешней торговли США была выше соответствующего показателя в Англии, многие политики США опасались конкуренции латиноамериканских сельскохозяйственных товаров [728]. Объем латиноамериканской торговли в английском внешнем товарообороте 1800-х – 1830-х гг. ни разу не превысил 12 процентов (уровень 1825 г.).
Никто не мог оспорить место Англии как главного, а то и единственного кредитора Латинской Америки. Уже в 1824–1825 гг. первые займы были предоставлены Лондоном Мексике, Аргентине, Бразилии. Англия была в те годы единственной страной, которая могла себе позволить крупные капиталовложения за границей. Ее инвестиции в облигации молодых государств, а также ценные бумаги вновь образованных акционерных обществ (обычно горнорудных) быстро составили значительную сумму, однако этот спекулятивный инвестиционный бум завершился к концу 1827 г. полным крахом и банкротством подавляющего большинства компаний [729]. Так, если на рубеже 1824–1825 гг. колумбийские облигации шли в Лондоне по 96 фунтов, то осенью 1826 г. они не стоили уже больше 30. С перуанскими ценными бумагами дело обстояло еще хуже [730]. Тем не менее, и в дальнейшем Англия продолжала занимать главное место как инвестор и кредитор Латинской Америки [731].
Крах горнорудных компаний стал очевидным следствием завышенных ожиданий, основанных в первую очередь на статистике Гумбольдта. Так, он писал, что вывоз серебра из Испанской Америки составляет 3,5 миллиона марок серебра, Торрес говорил, что реальная цифра и того больше – 5,5 миллионов [732]. На деле же никто никогда не знал подлинных объемов производства, но, по примерным оценкам, разоренные войной 1810-х – начала 1820-х гг. шахты Перу, Боливии, Мексики восстановили дореволюционный уровень добычи только в 1840-е гг. [733]
Под эгидой доктрины Монро
Концентрированным выражением внешней политики ранней республики стали тезисы президентского послания Конгрессу, составившие впоследствии доктрину Монро. Серьезную роль в ее создании сыграли весь ход обсуждения, подписания и ратификации Трансконтинентального договора, а также дискуссии о признании независимости государств Нового Света. Доктрина Монро прекрасно изучена несколькими поколениями исследователей, что позволяет нам ограничиться лишь кратким очерком ее становления и места в латиноамериканском курсе США в 1820-е гг.
2 декабря 1823 г. президент Монро провозгласил «в качестве принципа, с которым связаны права и интересы Соединенных Штатов, что американские континенты ввиду свободного и независимого положения, которого они добились и которое они сохранили, не должны впредь рассматриваться в качестве объекта для будущей колонизации любой европейской державы».
Помимо принципа неколонизации, выдвигался принцип взаимного невмешательства государств Старого и Нового Света: «В войнах европейских держав, в вопросах, касающихся их самих, мы никогда не принимали участия, и это согласуется с нашей политикой… Политическая система союзных держав… значительно отличается от политической системы Америки… мы будем рассматривать любую попытку с их стороны распространить их систему на любую часть нашего полушария опасной для нашего спокойствия и безопасности. Мы не вмешивались и не будем вмешиваться в дела существующих колоний или зависимых территорий любого европейского государства. Но что касается правительств, которые провозгласили свою независимость и сумели ее сохранить и независимость которых мы признали при зрелом размышлении и согласно с принципами справедливости, то мы не можем рассматривать вмешательство в их дела со стороны какой-либо европейской державы с целью их подчинения или контроля любым другим способом их судьбы иначе как проявление недружелюбного отношения к Соединенным Штатам» [734].
Третьей частью доктрины Монро как «объединенной (combined) системы политики» [735]стала идея «неперехода» (no-transfer, противодействие переходу колониальных владений в Новом Свете в руки другой державы), пусть она и не вошла в сам текст президентского послания от 2 декабря 1823 г. Впервые этот принцип четко выразил Адамс в конфиденциальном меморандуме, адресованном русскому посланнику барону Ф. В. Тейлю (1771–1826) 27 ноября 1823 г. [736]
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу