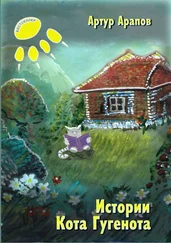Шагом назад, и весьма значительным, было и то обстоятельство, что в решениях таборитских синодов уже не отвергалась сама идея подданства. Наоборот, она молчаливо признавалась в противовес прежним хилиастическим требованиям таборитов. Даже в сочинениях Петра Хельчицкого подданство и деление общества на сословия отвергались категорически. Следовательно, и здесь мы наблюдаем значительную эволюцию таборитов вправо. Большое внимание к судьбам седлаков проявлено в рассматриваемых решениях, как нам думается, совсем не случайно. По существу теперь речь идет не о крестьянской бедноте, хотя нередко употребляется термин «беднота» и постоянны ссылки именно на ее интересы. По существу своему клатовские решения выражали интересы зажиточных и частью средних крестьян, которые готовы были признать и подданство и необходимость платить феодалам платежи, признавали социальное и правовое неравенство при условии получения некоторых уступок от феодалов. Сказалось, безусловно, и усиление позиций дворянства, примыкавшего к таборитам.
В дальнейшем предписывалось не предпринимать походов с целью захвата добычи, не принуждать бедных людей насилием выплачивать различные платежи. Такого рода требование встречается в «Воинском уставе» Яна Жижки от 1423 г. Лишь одна из девяти клатовских статей касалась непосредственно проблем, связанных с религиозным учением церкви — это статья о сущности причашения. Отмечалось, что и в этом вопросе имеется много колебаний, и неправильных толкований, и предписывалось чаще причащаться [749] Указ. соч., стр. 138.
, чтобы лучше помнить о Христе.
* * *
Очень мало сохранилось документальных данных, сообщающих о таборитской практике послехилиастического периода. Например, в одном из источников говорится о том, как священник Суходольский пожаловался Ольдржиху Рожмберку, что ему некоторые рыбаки отказываются платить рыбную десятину. «Также жалуюсь В. М. (Вашей милости. — А. О .) на рыбаков из Суходола на Кржиху и на Филеше, что не хотят давать мне рыбной десятины, как это установил пан Индржих, луркрабий Лутовский, двое мне дают, а двое отказываются». Далее священник сообщал о том, что рихтарж. из Суходола, Стоклас, при требовании священником этой уплаты «еще грозился мне, говоря: будешь сожжен и со своими слугами» [750] «Archiv ceský», dil 14, 1895, с. 4.
, если будешь требовать с крестьян рыбной десятины. В 1424 г. в Ждицком соглашении между таборитами и пражанами было специально оговорено, чтобы священники «десятины больше с людей не собирали» [751] «Archiv ceský», dil 3, c. 250.
. Пример с Суходольским священником говорит даже о большем, чем только о церковной десятине. Он напоминает о прежнем и давнем народном требовании дать крестьянству свободный и бесплатный доступ к общинным угодьям. Это требование включено было и. в известные нам хилиастические статьи, хотя оно вовсе не носило исключительно хилиастического характера. Достаточно напомнить 12 тезисов немецкого крестьянства периода Великой крестьянской войны в Германии.
О продолжающейся антифеодальной борьбе народа вплоть до окончания гуситских войн свидетельствуют данные, которые можно найти в хронике Бартошка и у Драгениц, рыцаря и непосредственного участника войн, против гуситов в составе войск Сигизмунда [752] Bártossii de Drahonicz Chronicon ab 1419 usque 1443, Ed. Dobner G., «Monumenta Historica Boemiae», t. 1, Praha, 1764.
. Он приводит целый ряд фактов разрушения таборитами феодальных замков и крепостей. По-видимому, это были владения главным образом крупных светских и церковных феодалов. В 1424 г., писал Бартошек, Жижка и табориты в районе Клатови и Пльзня преследуют знать, чешских панов, — пишет хронист [753] Указ. соч., стр. 147.
. В 1425 г. таборитские полководцы Ян Рогач и др. осаждали замки Красов и Либштейн, но взять их тогда не смогли. Однако им удалось тогда сжечь несколько замков панов Фридриха и Гануша из Коловрат, которые вели против таборитов ожесточенную борьбу. В том же году табориты осадили замок Вожице, взяли его с помощью штурмовых «машин» — механизмов для разрушения крепостных стен — и разрушили его. В том же году после 14 дней осады они взяли и разрушили замок Камениц [754] Указ. сoч., стр. 149–450.
. В 1427 г. табориты осадили, взяли и разрушили замок Червена Гора. Затем заняли город и замок Злебы и сожгли замок [755] Указ. соч., стр. 153.
. В 1428 г. табориты и сироты осаждали замок Лимбург, но не добились успеха [756] Указ. соч., стр. 159.
. В 1429 г. табориты захватили, замок Лансперк и сожгли замок Зивеков [757] Указ. соч., стр. 160.
. В 1430 г. они осадили замок Либштейн в Писецкой области, принадлежавший пану Фридриху из Коловрат. Пан заключил с таборитами соглашение, благодаря чему его замок был сохранен [758] Указ. соч., стр. 165.
. В 1432 г. табориты и сироты осаждали замки Потштейн, Фричштейн и Перкакан. Паны пошли с ними на соглашение [759] Указ. соч., стр. 176.
. По-видимому, на всем протяжении гуситских войн табориты захватывали в свои руки различное королевское имущество, о чем писал Сигизмунд. Так, накануне переговоров в Хебе в 1429 г. он потребовал от таборитов в качестве предварительного условия, чтобы ему возвратили коронное имущество, а также вернули бы имущество их прежним светским и церковным владельцам [760] A. Neibáuer . Knez Prokop Holý, «ССН», 1910, с. 178.
. Очевидно, часть этих владений находилась в руках таборитских общин. К сожалению, нам неизвестно, как и кому раздавались в эти годы королевские и иные светские церковные владения, но факт тот. что такие владения были тогда в руках таборитов. В анонимной жалобе против гуситов в 1432 г., т. е. гораздо позднее, чем выступали таборитские хилиасты, припоминается, что табориты обещали подданным «всевозможные свободы в водах, лесах и лесничествах» [761] Anon, invectiva…, «FRA», bd. 2, t. I, 627.
. Следовательно, продолжалась борьба за трудовую крестьянскую собственность, за расширение экономических возможностей для крестьянина вести свое хозяйство в более благоприятных условиях.
Читать дальше
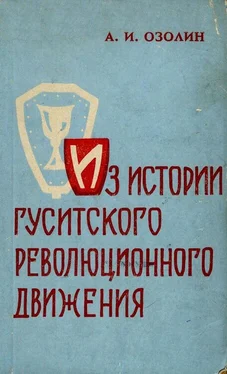


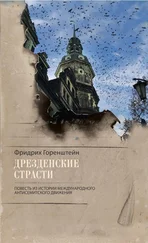
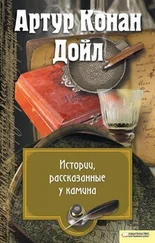
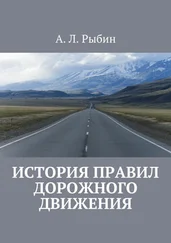
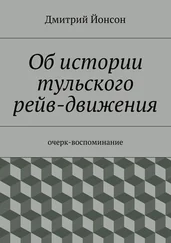

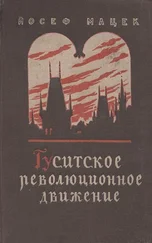
![Александра Лисина - Артур Рэйш. Истории о маге смерти [компиляция]](/books/422421/aleksandra-lisina-artur-rejsh-istorii-o-mage-smert-thumb.webp)
![Александра Лисина - Артур Рэйш. Истории о маге смерти (СИ) [компиляция]](/books/422507/aleksandra-lisina-artur-rejsh-istorii-o-mage-smert-thumb.webp)
![Артур Лорентс - История западной окраины [=Вестсайдская история]](/books/422897/artur-lorents-istoriya-zapadnoj-okrainy-vestsajds-thumb.webp)