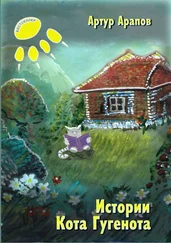Гораздо последовательнее, чем умеренные гуситы, таборитские общины выступали против монастырей, против ненужной роскоши в церковном убранстве. «Далее, — требовали они, — чтобы закрывали и разрушали еретические монастыри, ненужные церкви и алтари, иконы, роскошные украшения и золотые и серебряные чаши и всяческий посев Антихристов (т. е. следы его влияния. — А. О .), и идолопоклоннические и симонийские грехи, которые не от бога, отца небесного» [630] Vavrinec z Brezové , Указ. соч., стр. 86.
. Умеренные гуситы также выступали против дорогой церкви, против иконопочитания и т. д., однако они не вели такой последовательной борьбы против церковной роскоши и в практике своей отвергали таборитское требование полного истребления монастырей, хотя еще недавно за это стоял Ян Гус, считавший монахов паразитическими элементами в обществе. Тот же хронист (Вавржинец) сообщает, что табориты последовательно выполняли это свое требование. На другой день после вручения пражанам своих 12 статей они приступили к разрушению монастырей в Праге [631] Указ. соч., стр. 82–87, затем стр. 96–97. Об этом сообщалось и в других хрониках, современных событиям.
.
Наряду с рассмотренными статьями, которые задевают вопросы, близко касающиеся третьей и четвертой, пражских статей, в некоторых требованиях таборитских общин ставились задачи, аналогичные содержанию четвертой пражской статьи. Народ настаивал на решительной борьбе со смертными грехами, которые в его толковании были присущи, главным образом, феодальным и иным привилегированным и имущим слоям населения. В одной из 12 статей это требование было выражено весьма категорично: «Далее, чтобы явные грешники, развратники и развратницы…, сводники и сводницы…. проститутки явные или тайные, лентяи или лентяйки, разбойники и всевозможные враги божьи, богохульники и клеветники, пусть хотя бы какой угодно должности или сословия, не были бы терпимы без наказания» [632] Там же, стр. 85.
. Из сообщений Вавржинца известно, что таборитские общины с самого начала своего пребывания в Праге выступили решительно против попустительства роскоши, разврату, которые были широко распространены в. столице, несмотря на то, что руководство города находилось уже в руках бюргерской оппозиции. Характерно, что специальная статья в данном документе направлена против ростовщичества и обмана: «Далее, чтобы в ремеслах и на рынке заботились о том, чтобы не было никакого обмана, обкрадывания, ростовщичества, присяг (т. е. клятв. — А. О .), бесполезности и тщеславия, коварства и лжи…» под страхом наказаний за эти проступки. В данной статье очевидно проявление интересов городского плебса, мелких бюргеров, о программных требованиях которых известно, к сожалению, весьма мало. От обмана купцов на рынках Праги, как и других городов, страдала больше всех беднота столицы. Крестьянство прилегающих к Праге и зависящих от нее селений также нуждалось в ликвидации этих порядков. Требование отмены ростовщичества мы находим и в четвертой пражской статье, где оно отнесено также к смертным грехам.
Значительно более радикальный характер требований таборитов по сравнению с умеренными гуситами очень ясно проявляется, например, в статье, в которой категорически отвергалось существовавшее в то время, феодальное право в самых различных его формах, как мы это видели и в хилиастических статьях: «Далее, чтобы было уничтожено право языческое и немецкое [633] Под немецким правом разумелось использование его в ряде чешских городов, где было много пришельцев — немцев. В некоторых северо-чешских и южно- и средне-чешских городах применялось баварское (нюрнбергское) и саксонское право. См., примечание к хронике Вавржинца.
, которое не согласуется с заповедями божьими. Последующая часть рассматриваемой статьи показывает, что имелось в виду, собственно говоря, все феодальное право. Оно и подразумевалось под «языческим» правом. С требованием отмены «немецкого» права, как отмечает И. Мацек [634] J. Macek , Tábor…., dil 2, с. 229.
, было связано выступление против феодального права, определяющего отношения между подданными и подчиненными. Богатые пражские бюргеры и патриции владели тогда многими селениями и держали в зависимости тысячи крестьян. Выполнение данного таборитского требования привело бы к ликвидации их собственнических прав в деревне. «Языческому» и «немецкому» праву противопоставляется новое право, которое должно прийти на смену старому праву «…и чтобы все управлялось, определялось и решалось божьим правом». Разумеется, в кратком содержании статей не раскрывалось понятие «божественного права». Ясно лишь, что оно должно было быть принципиально иным, чем право, существовавшее в предгуситское время. Упоминание о «божественном» праве не являлось ни в какой мере оговоркой или случайностью. Наоборот, ссылка на него и в дальнейшем говорит о том, что эта идея прочно вошла уже в сознание таборитских общин. Они требовали, чтобы и магистры подчинялись этим нормам права, а не своим правилам и порядкам, которые обеспечивали им до этого многочисленные привилегии и монопольное положение в толковании религиозных и иных вопросов. «Далее, чтобы магистры были всецело (и) регулярно подчинены божескому праву, так, как и иные верные христиане». Можно согласиться с мнением Мацека, что под жизнью по «божьему» праву подразумевалась община равных, аналогичная по своей направленности самому Табору и другим таборитским центрам. Такое стремление таборитов подтверждается и их практической деятельностью.
Читать дальше
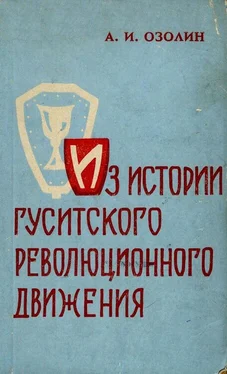


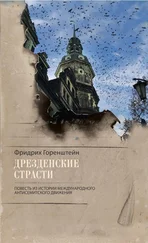
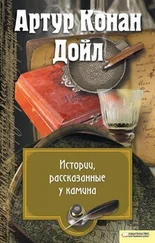
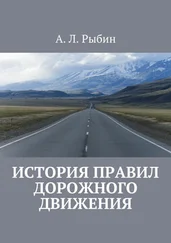
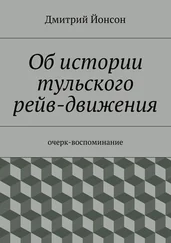

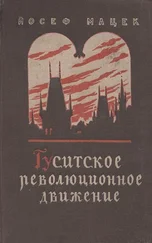
![Александра Лисина - Артур Рэйш. Истории о маге смерти [компиляция]](/books/422421/aleksandra-lisina-artur-rejsh-istorii-o-mage-smert-thumb.webp)
![Александра Лисина - Артур Рэйш. Истории о маге смерти (СИ) [компиляция]](/books/422507/aleksandra-lisina-artur-rejsh-istorii-o-mage-smert-thumb.webp)
![Артур Лорентс - История западной окраины [=Вестсайдская история]](/books/422897/artur-lorents-istoriya-zapadnoj-okrainy-vestsajds-thumb.webp)