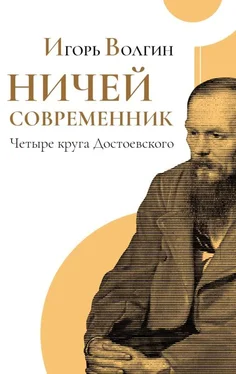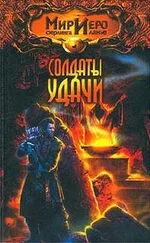Замечательно, впрочем, что авторы фильма не трактуют слишком буквально известную запись из черновиков к «Идиоту» – о «Князе Христе». Они избежали филологического соблазна напрямую отождествить князя Льва Николаевича с его евангельским прототипом. Конечно, российский «рыцарь бедный» – вовсе не Тот, Кто мог бы изгнать торгующих из храма. Он так же художественно удалён от исторического (и канонического) Христа, как и булгаковский Иешуа, который своим победительным простодушием вдруг начинает напоминать героя Достоевского, особенно когда именует «добрым человеком» кентуриона Марка Крысобоя и выражает уверенность, что если бы удалось поговорить с этим достойным римлянином, последний, вне всякого сомнения, изменился бы к лучшему.
Предмет двойного назначения
Почему, однако, все ключевые персонажи романа стремятся к самоуничтожению (бутафорский выстрел страдающего маргинала Ипполита лишний раз демонстрирует направленность пути)? «Я уже почти не существую…» – говорит Настасья Филипповна, всеми силами души влекущаяся на рогожинский нож (чей владелец тоже, положим, латентный самоубийца). Мышкин не может вновь не ввергнуться в «родимый хаос». Да и насмешливая гордячка Аглая, выходя замуж за опереточного польского графа, тоже нравственно губит себя. («Какой конец её!.. – как помним, сокрушался И. Шмелёв. – Насмешка… так кончить!»).
Но не к тому же ли влечётся страна, давшая миру «Идиота»?
Не раз уже приходилось писать, что Достоевский – наш национальный архетип. Он воплотил не только потаённые черты русского духа, но и драматический ход национальной истории. Он запечатлел тягу русского человека заглянуть в бездну и даже – без оглядки сверзиться в неё.
«Там, где дни облачны и кратки, родится племя, которому умирать не больно»: эти слова Петрарки автор «Онегина» взял эпиграфом к одной из его глав.
Две величайшие в российской истории национальные катастрофы, случившиеся на протяжении одного века и поведшие в конце концов к крушению государства, заставляют нас, читателей «Идиота», «поспешающих в Швейцарию», пристальнее вглядеться в текст.
Евгений Павлович Радомский толкует в романе, что «русский либерализм не есть нападение на существующие порядки вещей, а есть нападение на самую сущность наших вещей, на самые вещи <���…> на самую Россию». Спустя сто тридцать лет мы можем лишь повторить эту печальную максиму.
Все в России стремятся к всеобщему счастью (ныне оптимистически именуемому вхождением в мировую цивилизацию): сама же Россия перманентно «колеблется над бездной».
Когда в тоске самоубийства
Народ гостей немецких ждал…
Всходя на эшафот (куда завёл его всё тот же суицидный синдром), Достоевский «восторженно» скажет Спешневу: «Мы будем вместе с Христом». Под «вместе» подразумевалась, очевидно, не только жизнь вечная, но и – что очень возможно – принесение искупительной жертвы. Позже им будет замечено: «Я верую в полное Царство Христа. Как оно сделается, трудно предугадать, но оно будет. Я верую, что это Царство совершится».
Не так давно движимый лучшими побуждениями пастырь предложил канонизировать Достоевского (а заодно – Пушкина, Розанова, Толстого!). Это вполне либеральная мысль. Неважно, что указанные лица уже канонизированы нашим культурным сознанием. И что у Церкви есть собственные мерила святости, далеко не совпадающие с нашими мирскими понятиями. Прославление не есть посмертная премия, присуждаемая за выдающиеся литературные заслуги. Возможно, искусство и святость имеют общие цели, но средства у них существенно разные. Вспомним, что тексты, обращающие наши души к добру и свету, сотворили люди отнюдь не безгрешные: может, именно потому они и сподобились их сотворить. Они совершили свой подвиг: однако вовсе не тот, на который обрекают себя «отцы пустынники и жены непорочны». Не надо смешивать небесное с земным.
Но такова Россия – единственная страна, пытающаяся свести небеса на землю. Она мечтает о лучшем и восклицает: «Парфён, не верю!» в мгновенье, когда Парфён уже заносит свой нож. Кстати, тот же предмет может служить ему для разрезания книг: романов Достоевского, например.
Глава 9
Как я был консультантом
В 1839 г. восемнадцатилетний Достоевский пишет брату Михаилу: «Человек есть тайна. Её надо разгадать, и ежели будешь её разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время».
Если подобное мнение справедливо, то применительно к художнику оно справедливо вдвойне. Художник занят делом воистину непостижимым, причём не только извне, но чаще всего – и изнутри. Между тем искусство испытывает неодолимую потребность познать самоё себя: дух вечно томится над собственной мировой загадкой.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу