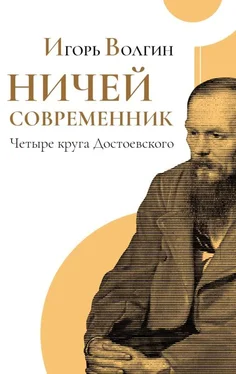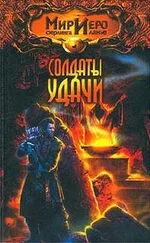Заметим, кстати, что Нечаева решительно отвергает те – тоже весьма давние – инсинуации, которые связаны с «подозрительным» освобождением М. М. Достоевского от суда по делу петрашевцев. Правда, тут Нечаева, как некогда Ф. М. Достоевский, опирается на аргументы главным образом морального свойства. Тем знаменательнее, что обнаруженное недавно в архивах следственное дело М. М. Достоевского документально свидетельствует о достойном его поведении весной и летом 1849 г., когда оба будущих редактора «Времени» находились в Петропавловской крепости.
Всё это может показаться не столь уж существенным. Казалось бы, так ли уж важно, как держал себя Михаил Михайлович перед Следственной комиссией и действительно ли он был некорректен с авторами. Казалось бы… Однако для истории совсем не безразлично, какими руками начертаны на публично поднятом знамени те или иные идеалы. «Честный журнал» – это не только честность общественного поведения, но и достоинство внутреннее, обращённое к кругу собственных единомышленников.
Нечаева подробно характеризует этот круг – тех «второстепенных» сотрудников «Времени», чья совокупная деятельность приносила в конечном счёте отнюдь не второстепенные результаты. «Объединяло их, – пишет автор, – не преклонение перед “почвой”, а общее всем им демократическое происхождение, трудовая деятельность, резко критическое отношение к русской действительности, вера в возможность и необходимость её перестройки, вера, которую они черпали из печатных органов русской демократии» [1169].
Но если издание братьев Достоевских опиралось на круги демократически настроенной разночинной интеллигенции (а это Нечаева доказывает, на наш взгляд, достаточно убедительно), то возникает вопрос, не была ли, например, его конфронтация с «Современником» следствием определённого исторического недоразумения, результатом конфликта внутри очень неоднородного, но всё-таки одного лагеря?
Журнал братьев Достоевских вступил на литературную арену в один из ответственнейших моментов русской истории. Именно в 1860-е гг. завязывались те гордиевы узлы, развязать (или разрубить) которые предстояло отдалённому будущему. «Это было именно время надежд и порываний, – приводит Нечаева слова Страхова. – Все умы были в таком возбуждённом состоянии, всё пришло в такое брожение, что, по-видимому, могли совершиться самые невероятные вещи. Чувство действительности потерялось: казалось, чего мы захотим, то и сделаем».
Даже такой убеждённый противник правительства, как Герцен, обращаясь к Александру II, восклицал: «Ты победил, Галилеянин!» Впрочем, Герцену потребовалось немного времени, чтобы увериться в том, что реформаторские потенции самодержавия в основном уже исчерпаны. Не так думал Ф. М. Достоевский. Он принимал высшую точку – 1861 г. – за точку отправную. Более того: добровольное освобождение крестьян «сверху» создало, по мнению писателя, исторический прецедент исключительной важности. Это была одна из сильнейших аберраций «почвенничества», и в этом смысле существование «Времени» представляет собой любопытнейший идейный феномен.
Журнал братьев Достоевских поднимал такие вопросы, которые не могли быть решены в рамках существовавшей государственности. Парадокс же состоял в том, что «почвенники» искренне надеялись использовать государство для осуществления своих идеалов. Именно государство должно было, по их мнению, открыть широчайший простор для «низовой» народной инициативы, обеспечить общественную справедливость и – что самое важное – преобразовать свою собственную социальную природу. Проблема, которую намеревалась решить русская революция, формулировалась в рамках принципиально безреволюционного сознания.
Тщательно проанализировав содержание «Времени», В. С. Нечаева приходит к заключению, что традиционная трактовка этого журнала как органа, близкого славянофильству, не подтверждается фактическими данными. Подчёркивая «демократические и прогрессивные» моменты в деятельности братьев Достоевских и их сотрудников, автор относит проявление подобных тенденций за счёт мощного влияния «Современника», его боевой радикальной публицистики. Не приходится сомневаться в правомерности подобного взгляда. Однако, сводя всё лишь к влиянию, мы рискуем упустить иную, не менее существенную сторону проблемы.
Следует задаться вопросом: каковы же исторические и гносеологические корни «почвенничества», впитало ли оно в себя чужую кровь готовых доктрин, или же его идеологическая структура выросла из реальных особенностей общественного развития, пусть в причудливой, порой извращённой форме отразив парадоксальные коллизии русской исторической жизни?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу