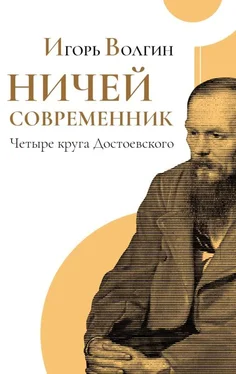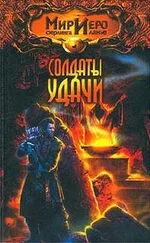Выход, очевидно, следует искать где-то «вовне» – в максимальном удалении от личности писателя, но таком, которое в конечном итоге приблизило бы нас к ней на максимально возможное расстояние.
Без гнева и страсти?
Ещё раз вспомним Ахматову:
Страну знобит, а омский каторжанин
Всё понял и на всём поставил крест.
Вот он сейчас перемешает всё
И сам над первозданным беспорядком,
Как некий дух, взнесётся. Полночь бьёт.
Перо скрипит, и многие страницы
Семёновским припахивают плацем.
«Семёновский плац» – факт личной биографии Достоевского. Но в не меньшей мере – факт общей «биографии» русского XIX столетия. Они существуют не «рядом», не один подле другого, а вместе, один в другом – в своей исторической взаимопроницаемости, спаянности, нерасторжимости.
Я говорю о художнике как субъекте всемирного исторического действа, требующего от него не эффектных выходов на историческую авансцену, «а полной гибели всерьёз».
«Весь» Достоевский может быть понят только в реальном историческом контексте.
В книге Б. Бурсова нет недостатка в оговорках относительно важности исторического подхода к личности Достоевского. И у него, слава богу, мы не встретим тех забавных «исторических» открытий, к которым приходят порой некоторые исследователи [1144].
Но – удивительное дело. При изрядном количестве называемых Б. Бурсовым имён, при всей насыщенности его «литературного пространства» нас вдруг посещает чувство, что пространство это чрезвычайно разреженное – в смысле нехватки реального исторического воздуха.
Исполненные глубокого смысла «внешние» события – от грома севастопольских пушек и «либеральной весны» конца 1850-х – начала 1860-х гг. до кровавой балканской драмы и отчаянных вспышек народовольческих бомб – всё это, повторяю, осталось «за кадром», никак в нём не отражаясь и на него не влияя. Литература как бы поглотила историю, вернее, отодвинула её в сторону.
Но не отстранилась ли при этом сама литература?
Речь идёт не о количестве и даже не о «качестве» необходимых исследователю (в нашем случае – «романисту-исследователю») исторических фактов. В конце концов их отбор – дело автора. Речь идёт об «ощущеньи шагов Истории самой». О том, как всеобщее историческое бытие сопрячь с интимнейшим микрокосмом личности, включить одно в другое, понимая это единство отнюдь не в механическом, а в органическом смысле.
Да не сочтут это трюизмом – путь к Достоевскому проходит через Достоевского.
И можно ли пройти «сквозь» Достоевского так, как мёртвый исследовательский зонд проходит сквозь верхние слои стратосферы, аккуратно фиксируя количество заряженных частиц?
«С гением необходимо сжиться, чтобы в полной мере оценить его гениальность», – пишет Б. Бурсов. И тут он бесконечно прав. С гением действительно надо сжиться, – если, конечно, это в наших силах.
В процессе «вживания» гений не остаётся посторонним к личности самого исследователя. Как всякая личность, он, гений, требует личностного к себе отношения.
Б. Бурсов заканчивает свою книгу ссылкой на известную античную традицию, предписывающую историку сохранять полное хладнокровие по отношению к своим героям.
Один польский исследователь заметил, что основателю этой традиции своим sine ira et studio «удалось ввести в заблуждение многих, поверивших, будто он и в самом деле писал “без гнева и без страсти”» [1145].
Писателей не следует понимать слишком буквально.
* * *
Помнится, кто-то сказал, что в России, для того чтобы заниматься писательством, надо иметь либо десятины Толстого, либо каторгу Достоевского.
Каторга Достоевского такой же значительный факт его духовной биографии, как и биографии эмпирической,
«…Совершенно неверно, – говорит В. Вересаев в предисловии к своей книге о Пушкине, – будто весь строй души великого человека, во всех его проявлениях, носит какой-то величественный, несвойственный другим людям отпечаток. Если Гораций, действительно, бежал с поля битвы при Филиппах, “нечестно брося щит”, – то бежал он как самый обыкновенный трус, а не как особенный какой-то талантливый трус» [1146].
Для чего нужна нам личность Достоевского? Зачем вообще знать что-то о писателе, помимо того, что уже вложено им в его произведения?
Своей книгой Б. Бурсов поставил эту проблему. Но одновременно и продемонстрировал исчерпанность старых – чисто литературоведческих – методов её решения.
Личность гения (как и личность любого человека) имеет абсолютную ценность. Строго говоря, в личности может быть нечто, чего нет в тексте, но в тексте нет ничего, чего бы не было в личности.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу