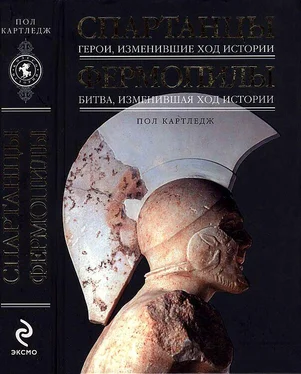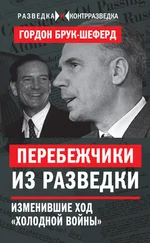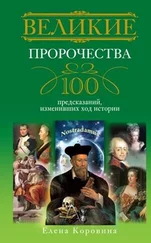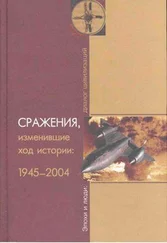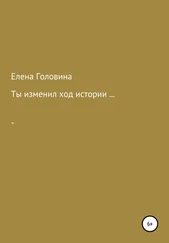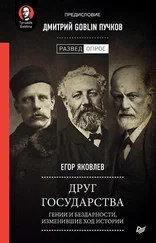Где же истина? Выбор Плутарха последовать за интерпретацией Филарха, так же как и факты, к сожалению, не решают проблему, так как он был скорее биографом морализаторского типа, чем лучшим образцом историка. Поэтому самое большее, на что мы можем претендовать в нашей собственной оценке, так это чтобы она не противоречила фактам, которые Филарх, Полибий и Плутарх сохраняют относительно неприкрашенными, и чтобы наша интерпретация этих фактов, по крайней мере, убедительно передала суть одного из самых интригующих, а также важных эпизодов спартанской истории.
Одна из причин, по которой следующий эпизод производит столь большое впечатление, заключается в том, что это один из очень редких случаев в древнегреческой (или римской) истории, когда мы можем сказать наверняка, что роль женщин оказалась не только заметной, но и решающей. Аристотель в своей Политике писал:
Во время спартанской гегемонии [archê] многое находилось у них в ведении женщины.
Это, вероятно, особенно относилось к периоду между 404 и 371 гг. Тем не менее между 244 и 221 г. это довольно противоречивое утверждение приобрело смысл и его подтверждение. Я уже упоминал, что Клеомен III женился на вдове Агиса IV Агиаде. Более того, Плутарх сообщает нам, что именно Агиада, горя жаждой мщения за убийство мужа и не менее чем он заинтересованная в том, чтобы довести до конца программу реформ, за которые в первую очередь он и был убит, превратила своего второго мужа Клеомена в реформиста. Кроме того, существовали также мать и бабушка Агиса — Агесистрата и Архидамия, которых Плутарх уверенно называет «богатейшими среди всех спартанцев» (включая как мужчин, так и женщин) и которые также определенно поддерживали Агиса. И последнее, но не менее важное обстоятельство: вызывающая восхищение Кратесиклея, мать Клеомена, раньше своего сына отправилась как заложница в изгнание ко двору Птолемея III и также была убита в ходе кровавой фракционной борьбы.
Гражданские раздоры, фракционная борьба или гражданская война обозначались греческим словом stasis (в современном греческом языке оно означает «автобусная остановка»…). Так как stasis мог иногда угрожать самому существованию греческого полиса , Аристотель сделал главной темой Пятой книги своей Политики его предупреждение или ликвидацию.
Но, как может показаться, задача была безуспешной или почти безуспешной: во всяком случае, stasis продолжал терзать греческий мир в III в. так же, как в V и IV вв. Однако одно очевидное новшество состояло в том, что Спарту, известную в предшествующую эпоху своей eunomia (организованным, надежным руководством) и социальной стабильностью, stasis теперь беспокоил так же, как и любой другой греческий город. Корни этой ситуации здесь, как и всегда, кроются в крайнем и всевозрастающем неравенстве в распределении и владении земельной собственностью.
Спарта когда-то гордилась совершенно противоположным. Она хвасталась политическим равенством среди homoioi или «подобных», что, по-видимому, основывалось на фундаментальном экономическом равенстве среди граждан, которое, очевидно, восходит к предполагаемому законодательству Ликурга, включавшему якобы равное распределение земли в Лаконии и Мессении. На самом деле спартанская земля распределялась совсем не на равных основаниях, и подобного не было никогда. Так же как и в других греческих городах, всегда существовали богатые спартанцы и бедные спартанцы. Острое и все более заметное различие между Спартой и другими греческими городами состояло в следующем: если спартанец становился слишком нищим, чтобы вносить установленный законом минимум натурального продукта в общую трапезу ( suskanion, sussition ), он лишался статуса homoios и становился членом более низкого класса граждан гипомейонов («младших»). Это автоматическое понижение в свою очередь все более и более ослабляло боеспособность личного состава армии, которая гарантировала статус Спарты как великой державы внутри и вовне Греции вплоть до битвы при Левктрах в 371 г.
Как бы именно ни действовал механизм концентрации земли в Спарте (современные исследователи разделились по этому вопросу, так же как и древние источники), но этот фактор, вероятно, стал главной причиной увеличения нехватки живой силы ( oliganthrôpia ), вследствие чего между 400 и 250 гг. количество граждан снизилось с 3000 до всего лишь 700, из которых только 100 владели существенной долей земельной собственности. И эта ужасная ситуация заставила Агиса IV заняться ее исправлением, и он сделал это, провозгласив объединяющие, освященные временем лозунги угнетенного крестьянства — аннулирование долгов и перераспределение земли. Это само по себе парадоксальным образом было знаком усилившейся спартанской «нормализации». В ее социальных и экономических условиях оставалось все меньше и меньше специфического, даже если по общегреческим стандартам она и оставалась очень необычной в политическом отношении.
Читать дальше