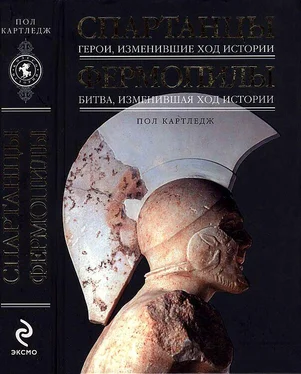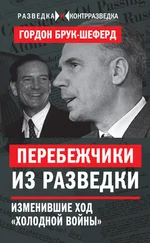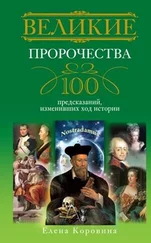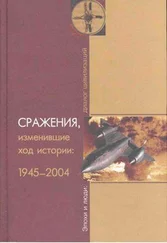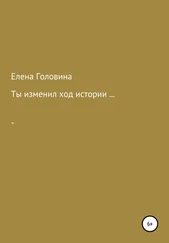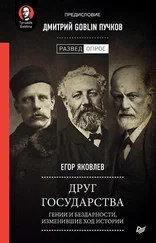«Отказ» от новорожденных никоим образом не был обычаем уникальным для Древней Спарты. Он также был положительно рекомендован в утопических философских предписаниях как Платона, так и Аристотеля. Однако в прочих греческих городах эта процедура была значительно более мягкой и иначе организована. Полнота контроля за процессом принадлежала родителям, а не государству, и к отказу чаще всего прибегали по экономическим причинам, а не из соображений евгеники или по указке государства. Кроме того, вовсе не обязательно ожидалось, не говоря о том, что желалось, что отказ автоматически означал смерть. В Афинах, например, существовал общепризнанный термин (( en ) khutrizein ) для практики возложения новорожденного в большой глиняный сосуд в надежде, что какая-нибудь другая семья, бездетная по физиологическим или иным причинам, но материально способная и психологически желающая, может подобрать и воспитать его.
Так что спартанцы не только воспитывались в близком знакомстве со смертью и похоронами, но их учили тому, что они должны готовиться к утрате ребенка, представлявшегося обузой для общества или государства. В соответствии с этой точкой зрения, спартанцы не испытывали потребности исполнять похоронные песни и танцы или соблюдать траурные церемонии; значительное исключение — государственные похороны спартанского царя — было только эффектным подтверждением этого правила [39] См. главу 8.
. Поэтому покойного спартанца, спартанку или ребенка хоронили не в роскошной, не говоря уж о том, чтобы внешне броской или монументальной гробнице, а в простой яме, вырытой в земле, в сопровождении минимума похоронных принадлежностей. Плутарх рассказывает, что правила захоронения взрослого мужчины допускали только знаменитый алый военный плащ, при этом тело клали просто на подстилку из лавровых листьев. (Это, кстати, может объяснить, почему до сих пор найдено так мало спартанских могил этого исторического периода.)
Покойному спартанцу не разрешалось иметь даже столь незначительную роскошь, как надгробный камень с обозначением его имени — за двумя исключениями. Во-первых, солдату, убитому на войне, разрешалось упоминание его имени на надгробии вслед за двумя простыми словами: «на войне» — воистину лаконичное сообщение. Лаконичная (спартанская) речь была краткой, сжатой и четкой, но соответственно предполагалось, что каждый слог должен быть произнесен. Такое посмертное чествование было логическим следующим шагом за прославлением спартанцами «красивой смерти» воина на поле боя. Такое отношение восходит по меньшей мере к середине седьмого века, так как оно встречается уже в стихах Тиртея: «терпи, видя кровавую смерть, / нападай на врага, стоя рядом» [40] Tyrtaeus Fragments , 12.11.14.
. Тиртей был спартанским национальным военным поэтом, и его военная лирика пережила столетия, мальчики в ходе обучения принудительно заучивали ее наизусть и регулярно декламировали во взрослом возрасте во время военных кампаний. Суть выражения «стоя рядом» в том, что это стихи о гоплитах: Тиртей представляет кровавую битву сомкнутой плечом к плечу фаланги. Второе исключение и послабление касалось либо жриц, либо — и этот вариант требует серьезной переделки дошедшего текста Плутарха — женщин, умерших родами. Оба варианта получают совершенно разумное объяснение в рамках общего контекста известных спартанских общинных ценностей. Возвеличивание смерти жрицы полностью соответствует спартанскому предпочтению религии — отношение людей к богам всегда имело преимущество перед мирскими делами, т. е. отношениями между людьми. Особое положение женщин, умерших во время родов, соответствует заботе о продолжении рода, а также отдает долг уважения к матери (особенно матери потенциального сына-воина) наравне с социальным вкладом взрослого мужчины-воина: первая дала новую жизнь Спарте, а второй отдал за нее собственную жизнь.
Рассказ Ксенофонта о последствиях битвы при Левктрах 371 года показывает, сколь странным было официальное спартанское отношение к смерти родственника. В Левктрах (в Беотии) Спарта потерпела первое серьезное поражение в решающем сражении пехоты от фиванцев и их союзников. Более половины сражавшихся спартанцев были убиты, и их смерть сократила общее взрослое мужское население полиса до менее тысячи человек, сравнительно, например, с 25–30 тысячами граждан тогдашних Афин. Это была массовая катастрофа, как коллективная и общественная, так и индивидуальная и частная — настолько такое различие может иметь смысл для Спарты. Так как огромные усилия были вложены в то, чтобы внушить официальную позицию через образование и воспитание, то вполне вероятно, что неофициальная, индивидуальная и частная позиция была абсолютно такой же.
Читать дальше