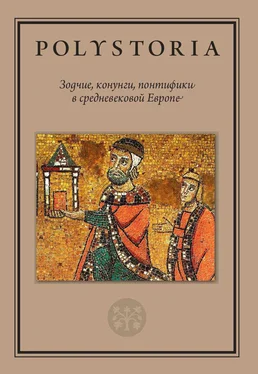Orkneyinga saga / F. Guðmundsson gaf út. Reykjavík, 1965. Bls. 24–25, k. XI. (Íslenzk fornrít; 34).
Þorsteins saga Síðu-Hallssonar. Bls. 217; ср.: Orkneyinga saga. Bls. 27, k. XII. Замечательно, что когда ярл, лишившись всех знаменосцев, предлагает взять смертоносный и победоносный стяг Торстейну, сыну Халля с Побережья, тот отвечает ему: «Сам неси своего ворона, ярл!» («Ber sjálfr krák þinn jarl!»). В соответствующем эпизоде «Саги о Ньяле» ярл Сигурд обращается с аналогичным распоряжением к человеку по имени Храфн Рыжий (букв. Красный Ворон — Hrafn enn rauði), на что тот отвечает: «Возьми сам своего чёрта!» («Ber þú sjálfr fjanda þinn!») (Brennu-Njálssaga (Njála). Bls. 410, k. CLVII; Исландские саги / под общ. ред. О. А. Смирницкой. Т. II. С. 363).
Encomium Emmae Reginae / ed. by A. Campbell. L., 1949. P. 24–25. (Camden 3rd ser.; no. 72). Весьма сходное описание знамени язычников, сотканного дочерьми Рагнара Лодброка (Кожаные Штаны) и носящего наименование Ворон , содержится под 878 г. в латинских «Анналах св. Неота», хронографическом сочинении, созданном в первой половине XII в. при аббатстве св. Эдмунда в Суффолке (Asser’s Life of King Alfred, together with the Annals of Saint Neot Erroneously Ascribed to Asser / ed. by W. H. Stevenson. Oxford, 1904. P. 44, 265–267; The Annals of St Neots with Vita Prima Sancti Neoti / ed. by D. Dumville, M. Lapidge. Cambridge, 1985. P. 78. (The Anglo-Saxon Chronicle; 17)); согласно анналам, стяг обладал способностью предсказывать исход битвы: если тем, кто шел за ним, суждено было победить, изображенный на нем ворон, казалось, трепетал крыльями, но если им предстояло проиграть битву, он поникал. Под тем же (878) годом в «Англосаксонской хронике» (рукописи B, C, D, E) помещено свидетельство о разгроме скандинавского войска в Девоншире (Уэссекс), когда был захвачен боевой стяг, который «они (т. е. викинги. — Ф. У. ) называли Ворон» ([D]: þær wæs guðfana genumen ðe hi Hræfn hæton; [E]: þar wæs se guðfana genumen þe hi ræfen heton) (The Anglo-Saxon Chronicle, MS D / ed. by G. P. Gubbin. Cambridge, 1996. Sub anno 878. (The Anglo-Saxon Chronicle; 6); The Anglo-Saxon Chronicle, MS E / ed. by S. Irvine. Cambridge, 2004. Sub anno 878. (The Anglo-Saxon Chronicle; 7)). Англо-нормандский хронист Жеффрей Гаймар (XII в.) уточняет в своей «Истории англов», что так назывался стяг, принадлежавший Убби, брату Ивара, одного из сыновей Рагнара Лодброка (Кожаные Штаны) ( Gaimar G. L’Estoire des Engleis / ed. by A. Bell. Oxford, 1960. Sub anno 878. (Anglo-Norman texts; 14–16)). Ср. также: Lukman N. Op. cit. P. 140–151.
Heimskringla / udg. ved F. Jónsson. Bd. I–IV. København, 1893. Bd. III. Bls. 105, k. XXII. (STUAGNL; 23); Снорри Стурлусон. Круг земной / изд. подгот. А. Я. Гуревич, Ю. К. Кузьменко, О. А. Смирницкая, М. И. Стеблин-Каменский. М., 1980. С. 413. (Лит. памятники). Название стяга, принадлежавшего Харальду Суровому, практически ничего не сообщает нам о том, нес ли он на себе какое-либо изображение, и если нес, то какое. Не исключено, что Харальд мог ориентироваться в этом отношении на своего единоутробного брата, конунга Олава Святого, у которого на боевом знамени белого цвета был изображен змей (ormr) (Heimskringla. Bd. II (1895). Bls. 68, k. XLIX; Снорри Стурлусон. Указ. соч. С. 191). Вместе с тем название Landeyða («Опустошитель Страны»), по-видимому, в искаженном виде попало в латинский текст под названием «Житие Вальтэова и его отца Сиварда Толстого», где оно выглядит как Ravenlandeye и поясняется как «ворон, ужас земли» («…Ravenlandeye, quod interpretatur corvus terroris terreni») (Scriptores rerum Danicarum medii aevi / ed. J. Langebek. T. I–IX. Hafniæ, 1772–1878. T. III (1774). P. 301). Согласно данному источнику, ярл Сивард Толстый получил это знамя от некоего неведомого старика, за которым просматривается, возможно, фигура Одина, а впоследствии жители Йорка поместили стяг в церкви св. Марии. Подробнее о названии этого стяга и о его владельце см.: Olrik A. Sivard den Digre // Arkiv för nordisk filologi. 1903. Bd. XIX. S. 199–214; Kahle B. Nordische Kleinigkeiten: 1. Die ehernen Rosse bei Saxo Grammaticus. — 2. Schiff und Vogel. — 3. Jarl Siward digre und seine Fahne // Arkiv för nordisk filologi. 1904. Bd. XX (Ny Följd XVI). S. 292–301.
Ср.: «Теперь берестеники (люди Сверрира. — Ф. У. ) один за другим очищали корабли островитян (противников Сверрира. — Ф. У. ), и по мере того, как их очищали, берестеники переходили с небольших кораблей на бо́льшие. Островитяне поставили Муху Победы, стяг Сверрира конунга, на носу своего головного корабля, так что берестеники хорошо видели, где его искать. Они наседали на этот корабль, пока не вернули себе знамя. Затем они взошли на этот корабль и очистили его от штевня до штевня» (Sverris saga. Bls. 128, k. CXX; Сага о Сверрире. С. 120).
О том, насколько опасна с тактической точки зрения такая ситуация, когда в ходе боевых действий стяг одного войска случайно оказывается на стороне противника, мы можем судить, в частности, по выразительному рассказу, приведенному в другом месте «Саги о Сверрире»: «Берестеники двинулись к городу, и встреча произошла на поле выше колокольни, немного не доходя до города. У Магнуса конунга и Эрлинга ярла (главных соперников Сверрира. — Ф. У. ) было пять сотен людей. Сразу же разгорелась жаркая битва, и бились ожесточенно, но это продолжалось недолго. Торир Спэла нес стяг Эрлинга ярла. Люди гибли с обеих сторон, но больше у Магнуса конунга. Берестеники рвались туда, где был стяг Эрлинга ярла. Теснимый со всех сторон, Торир воткнул древко стяга в землю, так что стяг остался стоять. Тут люди Эрлинга ярла стали отступать, и стяг оказался в тылу тех берестеников, которые больше всего продвинулись вперед. Те, кто шли сзади, подумали, что ярл там, где его стяг, испугались и решили, что началось бегство. Но, когда Сверрир конунг понял это, он велел срубить древко стяга» (Sverris saga. Bls. 41, k. XXXVII; Сага о Сверрире. С. 42).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу