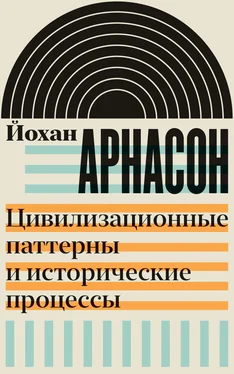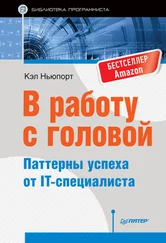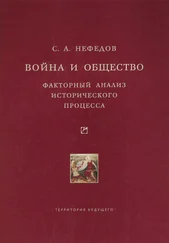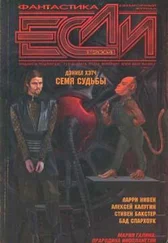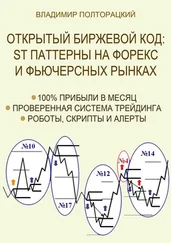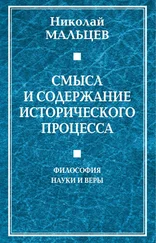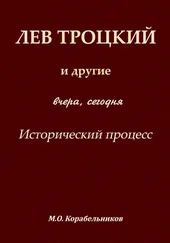Ранние версии теории модернизации не игнорировали советский опыт (см.: Inkeles A. Social Change in Soviet Russia. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1968). Анализ советской системы, осуществленный Т. Парсонсом ( Parsons T. The System of Modern Societies. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1971. P. 124–128), который незаслуженно восхвалялся некоторыми комментаторами после крушения советского режима, может считаться промежуточным между первой и второй стадиями теории модернизации (как они были определены выше). Согласно Парсонсу, причиной несбалансированности советской модернизации стало развитие ее инфраструктурной стороны без необходимых институциональных рамок. Основные постпарсонсовские теории модерности (представленные в трудах Ю. Хабермаса и Э. Гидденса) немногое добавили к нашему пониманию коммунистического опыта. Напротив, подходы, которые доминировали в сфере исследований советского общества и конкурировали между собой, не уделяли внимания советской модели как типу модерности. Ни сторонники теории тоталитаризма, ни представители социальной истории не видели в этом центральной проблемы.
У. Ростоу описывал советскую модель индустриализации как такую, которая «смогла осуществить и даже расширить выпуск продукции, используя усовершенствованные технологии тяжелой промышленности периода, предшествовавшие 1917 году» ( Rostow W. Eastern Europe and the Soviet Union: A Technological Timewarp // Chirot D. (Ed.) The Crisis of Leninism and the Decline of the Left: The Revolutions of 1989. Seattle: University of Washington Press, 1991. P. 63).
Югославия, которая долгое время ошибочно считалась примером национального коммунизма, представляла гораздо более аномальную линию развития. Там существовали определенные имперские предпосылки, хотя и не столь явно выраженные, как в России и Китае. Югославское государство, воссозданное коммунистами в 1945 году, состояло из частей двух исчезнувших империй. Этим квазиимперским измерением проекта можно объяснить истоки советско-югославского конфликта. Идеологической ереси вначале не было; скорее югославское руководство воспроизводило советскую модель таким способом, который казался советскому центру слишком амбициозным и самодостаточным. После конфликта югославскому руководству пришлось переопределить проект и консолидировать его поддержку внутри страны. В результате появилось уникальное сочетание контроля и уступок с характерной монополией партии на политическую власть, но гораздо менее ортодоксальными установлениями в экономической и культурной сферах. На более поздней стадии дезинтеграционный потенциал этой модели был усилен перераспределением власти между соперничавшими политическими центрами. Короче говоря, процессы модернизации фрагментировались дважды – по институциональным и национальным границам.
Murakami Y. Modernization in Terms of Integration: The Case of Japan // Eisenstadt S. (Ed.) Patterns of Modernity. London: Pinter, 1987. Vol. 2. P. 65–88.
Arnason J. Totalitarianism and Modernity // Siegel A. (Ed.) The Totalitarian Paradigm after the End of Communism. Amsterdam: Rodopi, 1998. P. 151–179.
Sakwa R. Russian Political Evolution: A Structural Approach // Cox M. (Ed.) Rethinking the Soviet Collapse. London: Pinter, 1998. P. 181–201.
Tucker R. Stalin in Power: The Revolution from Above, 1928–1940. New York: Norton, 1990.
Rittersporn G. Stalinist Simplifications and Soviet Complications: Social Tensions and Political Conflicts in the USSR, 1933–1953. New York: Harwood Academic Publishers, 1991.
Этот тезис не может получить бесспорного доказательства, но подробный анализ Пражской весны показывает, что процесс реформирования уже нельзя было остановить изнутри (см.: Skilling H. G. Czechoslovakia’s Interrupted Revolution. Princeton: Princeton University Press, 1976). Много было сказано о реформистском движении в Чехословакии и гораздо меньше о чехословацком примере в целом. Он, однако же, представляет особый интерес для сравнительного анализа коммунистических режимов. Это было наиболее развитое общество, попавшее под коммунистическое правление, но тем не менее в нем сложились и внутренние предпосылки для переворота, а последующая социальная трансформация сопровождалась формированием особенно жесткой и подчиненной центру версии советской модели. Возникший в результате этого кризис породил самый серьезный проект реформирования коммунизма, но этот поиск альтернативы был подавлен внешними силами до того, как полностью проявились его внутренние проблемы, а его поражение привело к делегитимации реформизма. Наконец, восстановление режима, не обладавшего легитимностью, привело к социальному и культурному параличу. Но, несмотря на это, оказался возможным исключительно быстрый и плавный выход из коммунизма, когда изменились геополитические условия и псевдореалистическая утопия возврата к «нормальным» западным формам модерности на некоторое время стала казаться более правдоподобной, чем где-либо еще в посткоммунистическом мире.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу