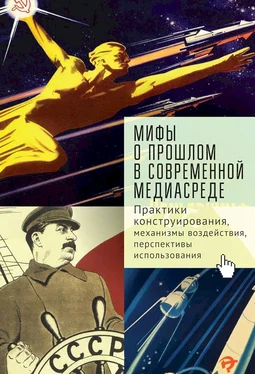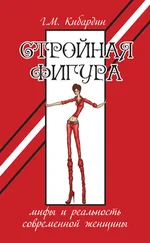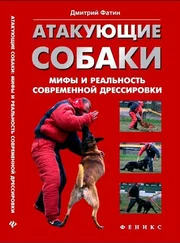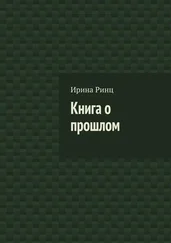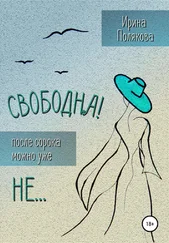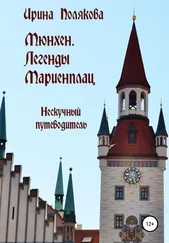О механизме появления утопии на руинах архаической мифологии писал белорусский исследователь Г. П. Коршунов, справедливо считая, что процессы урбанизации, роста прагматизма, усиления конкуренции привели в итоге к деформации традиционных мифологических моделей (прежде всего через разрушение их ценностной, социальной и поведенческой базы) и способствовали интенсификации процессов порождения смыслов, ставших универсальными и интегративными: «На месте дискредитированных иррациональных (мифологических и религиозных) систем образовывался мотивационно — объяснительный и легитимирующий вакуум. Этот вакуум с необходимостью „заполнялся“ — заполнялся изобретаемыми теоретиками искусственными системами, претензия на истинность которых обосновывалась научностью, открытием универсальных оснований бытия, принципом прогресса, социальной справедливости и т. д. Провозвестником таких телеологических концепций социального проектирования можно считать „Утопию“ Т. Мора и „Город Солнца“ Т. Кампанеллы, хоть они формально и продолжали еще линию Платона с его идеальным обществом» [340] Коршунов Г. П. Место и роль социальной мифологии в структуре массового сознания. — Минск: Беларус. Навука, 2009. С. 65–66.
. Утопии принадлежит особая роль в процессе трансформации самой социальной мифологии в Новое время. В утопиях Нового времени делался акцент на отдельных социальных сферах (экономика, политика), в результате чего происходило как разрушение религиозного догматизма, так и окончательная утрата мифологического синкретизма.
В ходе оформления утопии, а также в процессе разрушения классической (архаической) мифологии как фактора, влияющего на общественное развитие и способствующего формированию образа будущего, формировалась — через все большее проникновение в ее содержание рациональных составляющих — социальная мифология. Сущностные свойства же архаической мифологии — синкретизм, коллективизм — окончательно уходили в прошлое.
Далее на исторической авансцене стали появляться идеологии. Между тем, ни утопии, ни идеологии содержательно и функционально не могут сравниться с социальной мифологией. Рассмотрение и сравнение смысла утопии и появившегося в Новое время понятия идеологии с мифологией, наиболее показательным будет, по нашему мнению, через рассмотрение работ К. Манхейма, в которых дается развернутая характеристика и утопическому, и идеологическому сознанию. Так, автор замечает следующее: «Утопичным является то сознание, которое не находится в соответствии с окружающим его „бытием“. Это несоответствие проявляется всегда в том, что подобное сознание в переживании, мышлении и деятельности ориентируется на факторы, которые реально не содержатся в этом „бытии“. <���…> …будем считать утопичной лишь ту „трансцендентную по отношению к действительности“ ориентацию, которая, переходя в действие, частично или полностью взрывает существующий в данный момент порядок вещей» [341] Манхейм К. Идеология и утопия // Диагноз нашего времени; пер. с нем. и англ. — М.: Юрист, 1994. С. 164.
. В то время как утопия, по К. Манхейму, уничтожает существующую «структуру бытия», то идеология лишь «корректирует» эту структуру с целью подчинения реальности идеологии определенной группы. При этом, однако, в основе и утопии, и идеологии лежат трансцендентные бытию факторы. В основе же социальной мифологии, по нашему убеждению, находятся имманентные бытию факторы; а сама социальная мифология есть неотъемлемый компонент актуального общественного существования. С социальной мифологией нельзя не считаться, ее нельзя не учитывать, в том числе и при историческом прогнозировании.
Если понимание социальной мифологии как судьбы заставляет вспомнить о мифологическом синкретизме, то политическое пространство современности неизбежно «допускает» рассмотренное выше, скажем так, искусственное дробление функциональных воздействий социальной мифологии (то есть онто-, гносео-, аксио-, праксио-). Реализация проектной функции социальной мифологии в политическом аспекте строится «на руинах» архаического мифа и тесно сопряжена с рациональностью, а через рациональность, — с идеологией: «Социальная сущность рациональности позволяет ей выступать в качестве медиатора между мифологией и идеологией. Научная рациональность приводит, с одной стороны, к разрушению мифологии, а с другой стороны, к утверждению идеологии» [342] Целыковский А. А. Мифология и идеология: роль рациональности в их взаимодействии: автореф. дис. … канд. филос. наук. — М., 2011. С. 17.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу