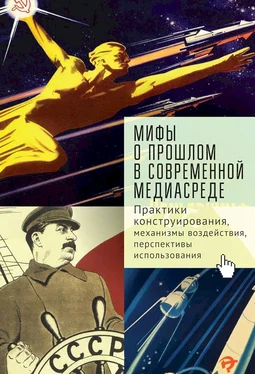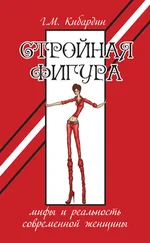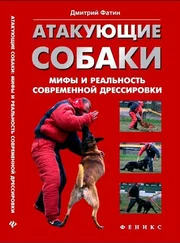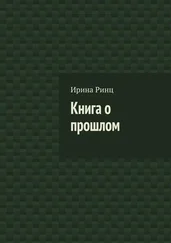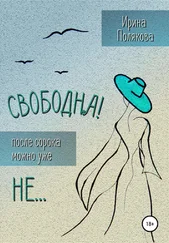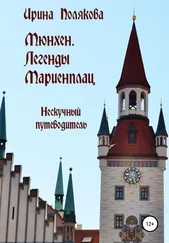То, что происходило в общественной жизни в начале XX в. можно также назвать альтернативной культурой, обращенной в будущее, в которой империи представляется своеобразными центрами проектирования общественной жизни для огромных территорий. И символизм, и вообще художественный авангард первых десятилетий XX в., вплотную подошли к творчеству альтернативной культуры. И в начале же XX в. миф покидает художественную реальность и находит свое выражение в самой политической истории. Политическая сфера способствует и подлинному раскрытию авангарда. Так, Д. Коттингтон в своей книге «Кубизм в тени войны. Авангард и политика в Париже 1905–1914 гг.» интерпретирует возникновение авангарда как результат взаимодействия большого числа социальных, экономических и политических факторов: появление развитой арт — дилерской системы и новых арт — рыночных стратегий, рост популярности радикальных внепарламентских форм политической борьбы, изменения в структуре господствующих классов и т. п. [234] Cottington D. Cubism in the Shadow of War: The Avant-Garde and Politics in Paris 1905–1914. — New Heaven; London: Yale University Press, 1998. P. 53.
В начале XX в. инструментами в борьбе авангардистов и мифотворцев за умы масс оказываются символ и нечто более коварное — символическое (а коварность символического заключена в «отсылке к архаическому», по аналогии с тем, что коварность мифического (не мифологического, а, именно, мифического) также состоит в отсылке к архаическому). Заложниками символического становятся отдельные индивиды как главные наблюдатели и мифологизаторы толп. Мы говорим о коварности и опасности архаического, состоящих в неизведанности, хаотичности, но опасен и современный миф. Современный социальный миф представляет опасность, прежде всего, потому, что, жонглируя значимыми символами, участвует в мифотворческих и мифологизационных процессах, усиливая, таким образом, манипулятивное воздействие на человека. То есть происходит некое «двустороннее движение»: с одной стороны, страх неизведанного и архаического; с другой стороны, угрозы манипулятивного воздействия на сознание.
Рассуждая о символе, мы во многом разделяем взгляд Э. Кассирера [235] См.: Кассирер Э. Философия символических форм. Т.2. Мифологическое мышление; пер. с нем. — М.; СПб.: Университетская книга, 2002. 280 с.
, полагавшего, что символ есть априорная логическая структура, накладываемая на чувственное многообразие. Последователи известного неокантианца представили более конкретное понимание символа: «Мы понимаем символ тогда, когда мы понимаем идею, которую он представляет, таким образом, символ и символизируемый объект должны иметь какую — то общую логическую форму» [236] Langer S. K. Feeling and Form: A Theory of Art. — New York: Charles Scribner’s Sons, 1953. P. 26–27.
.
В таких пограничных ситуациях как начало XX в. для утверждения новой социальной реальности особенно востребованными оказываются исторические мифосимволические ресурсы, питающие работу социального мифа, а символ становится эффективным инструментом в политической борьбе.
Сам факт трансляции мифосимволики в политической сфере, с одной стороны, делает миф более конкретным и практичным, позволяя ему непосредственно участвовать в формировании и воспроизводстве социальной реальности, с другой же стороны, оставляет простор для дальнейших интерпретаций истории, открывая возможности для расстановки новых — от позитивных до негативных — акцентов при оценке социально — политических событий. Последнее обстоятельство в настоящее время выводит на первый план масс-медиа с их способностью проинтерпретировать мифосимволику в нужном ключе.
Как отмечалось ранее, наличие «архаического» и «конъюнктурного» («инструментального») уровней характерно для любого современного социального мифа, в том числе и для политического. Сочетание этих уровней делает миф уникальным феноменом и отличает его, с одной стороны, древнего или классического мифа и, с другой стороны, от идеологических построений. Политический миф демонстрирует нам все специфические особенности проявления «конъюнктурного» («инструментального») уровня мифа в наиболее яркой манере. Во многом это объясняется тем, что политическая сфера общественной жизни дает шанс увидеть всю гамму практических проявлений мифа, увидеть место мифа в изменчивой политической конъюнктуре и роль мифа как инструмента в политической борьбе.
Здесь мы соглашаемся со сложившимся в настоящее время мнением о природе политического мифа, отмеченным К. Ф. Завершинским: «При всей вариативности современных политологических трактовок природы политического мифотворчества в них продолжает доминировать установка на понимание политического мифа как некого комплекса коллективных представлений (архетипов, стереотипов, ментальностей и т. п.), пришедших к нам из прошлого и влияющих на настоящее» [237] Завершинский К. Ф. Политический миф в структуре современной символической политики // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6. Политология. Международные отношения. 2015. Вып. 2. С. 18.
. Специфика же политического мифа, на наш взгляд, состоит в том, что он, располагаясь преимущественно на «конъюнктурном» уровне, всегда стремится продемонстрировать свои «архаические» корни (и как тут не вспомнить слова Р. Барта о стремлении современного мифа выдать искусственное за природное). Функционирование политических мифов несет для общества известную опасность. Так уже в середине XX века Э. Кассирер справедливо замечал, что «…миф перестал быть свободной и спонтанной игрой воображения, его хорошо отрегулировали, приспособили для политических нужд и использовали с весьма конкретными политическими целями» [238] Кассирер Э. Техника современных политических мифов; пер. с нем. // Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. 1994. № 5. С. 14.
. Мы исходим из того, что политический миф, являясь неотъемлемой составляющей социального мифа, отчетливо и в более практическом плане демонстрирует имманентно присущую современному социальному мифу конструктивно — деструктивную роль.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу