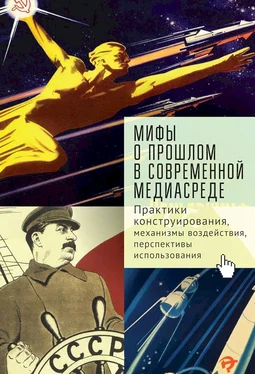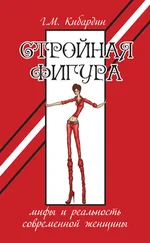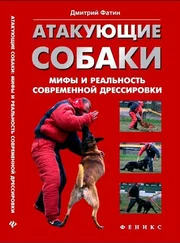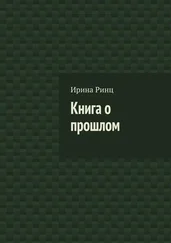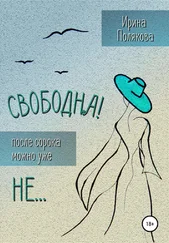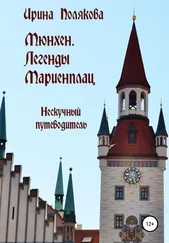Вместе с тем в сферу современных медийных мифов о прошлом попадает не только культурный герой. Мифологизации может быть подвержено как отдельное историческое событие, так и эпоха. В этом отношении современный медийный миф постоянно соприкасается с другими формами знания о прошлом и в том числе с научными историческими знаниями, заимствуя у них контент и зачастую маскируясь под научное историческое знание. В данном случае необходимо вновь согласиться с Роланом Бартом, указывавшим, что миф является именно формой, а не содержанием. Причем, формой, которая по новому маркирует сами «следы» прошлого как часть одновременно исторического и медиального пространства [112] Buller A. Theorie und Geschichte des Spurbegrifsf. Entschlüsselung eines rätselhaften Phänomens. — Marburg: tectum Verlag, 2016. S. 82.
.
В завершении позволим себе кратко обратиться еще к одной категории, которая выступает для нас инструментом анализа — категории «тотальность». М. Н. Чистанов указывает на то, что данная категория «может подразумевать единство исторического процесса, может указывать на связность и замкнутость исторического повествования, наконец тотальность может означать единство сознания постигающего историю субъекта» [113] Чистанов М. Н. Историческое сознание и социальность. — Новосибирск: Новосибирский гос. ун-т, 2006. С. 70.
. Другими словами, речь идет о некоей объединяющей интерпретационной схеме, конструкции исторического сознания, привносящей в набор исторических событий определенную целостность. В данном случае возможности архаической мифологии становятся более заметными. Отмеченный выше российский исследователь связывает это с включенностью нарратора в структуру мифологического повествования, когда тот в качестве рассказчика заявляет о своей личной позиции: одобрения или неодобрения, страха, волнения, восхищения. Он отмечает: «в результате такого позиционирования образуется неразрывное единство, включающее в себя акт первого творения как всеобщее первоначало, образец; совокупность событий, связанных с этим первоначалом генетически и образующих цепь взаимно порождающих друг друга явлений; наконец, самого рассказчика, повествующего обо всем вышеизложенном» [114] Там же. С. 99.
. Более того, можно было бы указать также и на законченность самого мифологического нарратива, не разложимого на отдельные сегменты и представляющего определенную пронизанную единым смыслом цепь описываемых событий. Данные характеристики, позволяющие выделить категорию «тотальность» в архаическом мифе в полной мере могут быть обнаружены и в мифе современном. Здесь также в полной мере присутствует позиция нарратора, который не только не стремится уйти в тень повествования, но наоборот активно позиционирует себя в тексте мифологического сообщения. Однако, еще более важным для современных медийных мифов о прошлом является специфика их отношения с историческими событиями. Современные мифы о прошлом создают достаточно произвольные конструкции исторических событий, стремясь объединить различные по своему содержанию и логическому объему исторические факты в общую сюжетную линию. Более того, сами факты могут быть напрямую взяты из исторической науки, однако характер их компоновки и интерпретации могут носить мифологизированный характер. Причем именно медиасреда усиливает данный мифологизационный эффект за счет активного использования визуального ряда, не всегда соответствующего тексту сообщения. Эстетическая целостность сюжета оказывается доминирующей над логической системностью аргументации. Можно также было бы сказать, что в некоторых случаях эстетическая целостность мифологического сообщения может вообще обходиться без отсылки к научно — историческим фактам, используя различные фейки или данные, продолжающие оставаться предметом обсуждения.
Также укажем на важный тезис о двойственной функции медиасреды в процессе формирования и распространения представлений о прошлом. Двойственность функции медиасреды в отношении системы общественных представлений о прошлом связана с ее мифологизационным потенциалом. Надо заметить, что сами исторические мифы, не тождественные историческим фальсификациям, при этом трактуются как «… представления о прошлом, воспринимаемые в данном социуме как достоверные „воспоминания“ (как „история“), составляющие значимую часть картины мира и играющие важную роль как в ориентации, самоидентификации и поведении индивида, так и в формировании и поддержании коллективной идентичности и трансляции этических ценностей» [115] Репина Л. П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные теории и историографическая практика. — М.: Кругъ, 2011. С. 453.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу