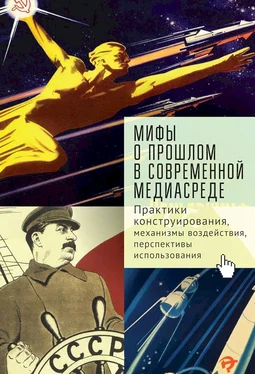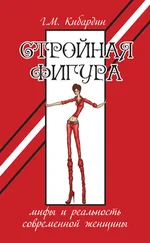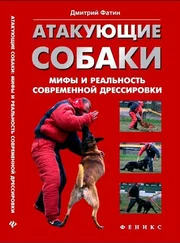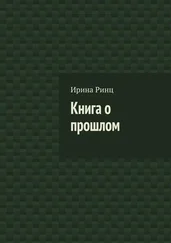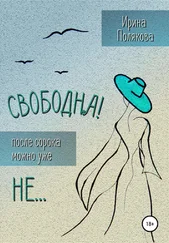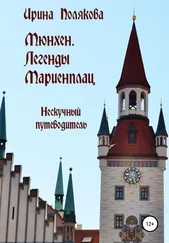И здесь мы обнаруживаем достаточно парадоксальную и вместе с тем предсказуемую ситуацию. Определение, данное Л. П. Репиной историческим мифам, по сути, позволяет говорить о двойственной функции социальной мифологии в процессе трансформации и воспроизводства исторической памяти. Двойственность функции социальной мифологии для исторической памяти состоит в том, что в условиях кризиса исторического сознания и утраты определенной целостности коммеморативного пространства социальная мифология и исторические мифы оказываются одним из наиболее эффективных (и зачастую быстрых) инструментов выработки защитного механизма, препятствующего полному распаду как индивидуальных, так и коллективных форм памяти. Как пишет Е. М. Мелетинский: «… мифология ориентирована на преодоление фундаментальных антиномий человеческого существования, на гармонизацию личности, общества и природы… мифологическому мышлению свойственно неотчетливое разделение субъекта и объекта, предмета и знака, вещи и слова, происхождения и сущности, безразличие к противоречию…» [116] Мелетинский Е. М. Мифология / Философский энциклопедический словарь / сост. Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалев, В. Г. Панов. — М.: Советская энциклопедия, 1983. С. 377.
. И в то же время, миф искажает действительность. Вспомним Р. Барта: «… миф представляет собой коммуникативную систему, некоторое сообщение. Отсюда явствует, что это не может быть ни вещь, ни понятие или идея; это форма, способ обозначения» [117] Барт Р. Мифологии; пер. с фр. — М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2004. С. 233.
; и далее: «Миф ничего не скрывает и ничего не демонстрирует — он деформирует; его тактика — не правда и не ложь, а отклонение» [118] Там же. С. 255.
. Если миф вообще замещает действительность в эмоционально — образной форме, то социальный миф с одной стороны компенсирует недостаток информации о социальной действительности и тем самым неизбежно искажает ее, а с другой стороны — выступает средством согласования и сближения позиций различных компонент социальной сферы. При этом дополнительной проблемой является тот факт, что мифология как слово, как форма: «…миф — система двойная; он как бы вездесущ — где кончается смысл, там сразу начинается миф. <���…> Миф же имеет ценностную природу, он не подчиняется критерию истины, поэтому ничто не мешает ему бесконечно действовать по принципу алиби; если означающее двулико, то у него всегда имеется некая другая сторона; смысл всякий раз присутствует для того, чтобы через него предстала форма, форма всякий раз присутствует для того, чтобы через нее отстранился смысл» [119] Барт Р. Мифологии; пер. с фр. — М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2004.. С. 248–249.
. Созидание и разрушение исторического смысла постоянно происходит и чередуется в науке, политике, праве, религии, рекламе, искусстве, образовании и пр. Последний тезис, с одной стороны сразу отметает всякую претензию на единственно верную роль науки в процессе демифологизации общества. Даже если и возможности исторической науки велики, все же нет никаких оснований полагать, что они могут занять собой все пространство исторического смысла, целостность которого в стабильные и тем более в переходные эпохи во многом обретается через локальные мифологии, отсылающие к какому — либо базовому социокультурному мифу [120] Будюкин Д. А. Трансформация образа Ричарда III в современном массовом историческом сознании // Общество. Гендер. История: сборник статей и тезисов докладов VIII Международной научной конференции. — Липецк: Издательство ООО «Гравис», 2015. С. 10.
. Так как же отделить конструктивные стороны в мифологии от деструктивных?
Полем различения конструктивного и деструктивного является сама историческая культура общества (совокупность всех форм и способов артикуляции времени в культуре, порождения и трансляции исторического опыта, исторической памяти и исторического сознания), а вернее ее способность вырабатывать исторический смысл и адаптировать его к постоянно изменяющимся условиям исторического бытия. Другими словами, стремление исторической культуры преодолевать конфликты в отношении оценок прошлого может быть представлено в качестве некоего основания для различения конструктивного и деструктивного в исторической мифологии.
Можно также сказать, что конструктивное в исторической мифологии есть оборотная сторона деструктивного, а вернее обе стороны постоянно присутствуют в едином процессе мифотворчества или мифологизации. Более того, в каждом конкретном случае, в каждой составляющей исторической культуры мы наблюдаем подобную двойственность функции мифологии. С этих позиций мы будем рассматривать специфику конструктивных и деструктивных форм мифологизации массового исторического сознания в медиасреде, сущность которой может быть раскрыта в контексте понятия «массовая коммуникация». Общим контекстом для нас будет позиция А. Ассман, полагающей, что «…СМИ дают важные импульсы для культурной памяти, но сами по себе они ее не создают ее. Они необходимы, чтобы активизировать культурную память, но для ее формирования нужны другие инстанции. Наибольшая часть медийных контекстов безвозвратно утрачивается; лишь небольшая их часть входит в состав функциональной культурной памяти» [121] Ассман А. Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая политика; пер. с нем. — М.: НЛО, 2014. С. 264.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу