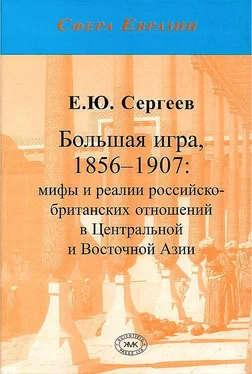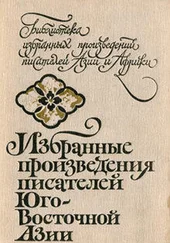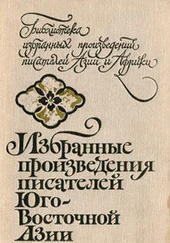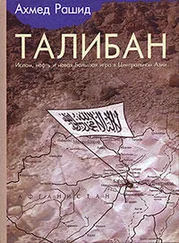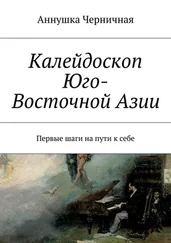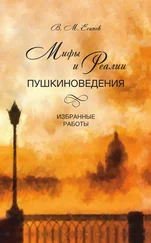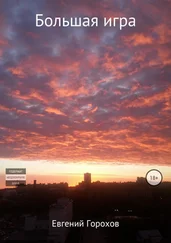Среди стратегов и аналитиков находились даже такие «военные умы», которые полагали, что Кашгария неизбежно попадет в руки России подобно спелому яблоку, поскольку влияние последней на Восточный Туркестан преобладающее, а ненависть мусульманских подданных к цинским властям будет со временем только усиливаться [600].
Примечательно, что англо-индийская пресса вспомнила о кризисе вокруг Или в связи с событиями в Закаспийской области, анализ которых будет представлен ниже. Так, газета Пайонир Мейл опубликовала 26 июля 1885 г. статью под заголовком «Англо-китайский союз». Ее автор вернулся к идее превращения Кашгарии в «новый фронт» борьбы против экспансии России: «При условии того, что мы находимся на хорошем счету у китайского правительства и пользуемся расположением мусульман в Азии, мы смогли бы превратить Тянь-Шань в непреодолимый барьер для русских, по крайней мере, до Кашгара на западе; мы также смогли бы создать военные поселения в Кашгарии и таким образом усилить нашу власть в Афганистане. Далее, заключив союз с Персией и Турцией, мы получили бы все основания надеяться на изгнание русских из Туркестана и Армении (sic!)» [601].
Хотя российские и британские путешественники, такие как Н.М. Пржевальский, Б.Л. Громбчевский и П.К. Козлов, или Н. Илайэс, А. Хози и Ф. Янгхазбенд, не говоря о многих других бесстрашных искателей приключений, продолжали пересекать пустыни и преодолевать горные хребты Восточного Туркестана [602], после урегулирования Илийского кризиса этот регион стал постепенно терять свое значение в качестве одной из главных «площадок» Большой Игры. Внимание мирового сообщества оказалось вновь привлечено к Синьцзяну спустя полвека — в 1930-х гг., когда массовые восстания мусульман Восточного Туркестана привели к провозглашению Уйгурской Республики под неофициальным советским контролем. Проблема самоопределения народов, проживающих в западных регионах КНР, остается нерешенной и сегодня. Однако она требует отдельного рассмотрения.
Афганский узел: попытка организации марша на Индию
Затишье, наступившее в Восточном Туркестане после нескольких бурных десятилетий, позволило царскому правительству перенести акцент на другие стратегические зоны Восточной Азии, и, прежде всего, Афганистан, который на протяжении десятилетия — со второй половины 1870-х до середины 1880-х гг. — выступал основным раздражителем в русско-британских отношениях.
Чтобы лучше понять общую международную ситуацию того времени, полезно вспомнить об острой фазе соперничества держав на Балканах, Ближнем Востоке и в Африке. Прежде всего, как уже отмечалось выше, усиление напряженности вокруг черноморских проливов, а также национально-освободительное движение в населенных славянами балканских провинциях Османской империи дестабилизировали баланс сил на европейском субконтиненте. «В общем, Россия для славян Европы есть средство, а не цель(выделено в тексте документа. — Е.С .), — отмечал начальник Азиатской части Главного штаба хорошо знакомый читателю полковник А.Н. Куропаткин в записке от 18 марта 1879 г. — Раз, достигнув при помощи России автономии, или независимости, славянские земли при всякой дальнейшей попытке со стороны России руководить ими не только отнесутся к нам недоверчиво, но даже весьма легко могут перейти на сторону наших врагов». Чтобы исключить такой сценарий, автор записки вновь обращал внимание высшего руководства на необходимость окончательного решения проблемы турецких проливов в контексте соперничества с Британией: «Владея Босфором, подчеркивал Куропаткин, — мы сделаемся неуязвимы для Англии и будем иметь более других шансов владеть и всем Балканским полуостровом как в политическом, так и в экономическом отношениях» [603].
Открытие военных действий между Россией и Турцией 27 апреля 1877 г. и последовавшее стремительное наступление царских армий через Балканы к проливам шокировали европейских политических деятелей при том, что многие представители общественности с пониманием и симпатией относились к освободительному движению славян против гнета турок, желая ухода последних с Балкан. «Если русские достигнут Константинополя, королева будет чувствовать себя настолько униженной, что она предпочтет немедленное отречение от престола», — писала Виктория премьеру Дизраэли, заклиная его «быть храбрым» в случае открытой конфронтации с русскими [604]. Властная элита Великобритании серьезно опасалась, что дальнейшая консолидация позиций России в Восточном Средиземноморье, а также ослабление турецкого контроля над Ближним Востоком будут иметь эффект «домино» для развития ситуации в Персии, Афганистане, а, в конечном счете, и в Индии. Еще за два года до начала русско-турецкой войны посол в Петербурге А. Лофтус поделился с лордом Дерби, занимавшим в середине 1870-х гг. пост министра иностранных дел, своими соображениями о возможной трансформации геополитического ландшафта на Среднем Востоке: «По информации из частных источников, которые мне доступны, я склонен полагать, что русское правительство имеет намерение сформировать независимое государство в провинции Герат, нарушающее суверенитет Афганистана, и договорилось с Персией подчинить своей власти туркменское племя теке. Если же создание независимого государства окажется неосуществимым, то они (русские. — Е.С .) могут попытаться заручиться полной поддержкой Персии, позволив шаху надеяться на завоевание Герата с окружающими его районами в качестве вассального владения Аб-дур Рахмана (будущего эмира Афганистана. — Е.С .), который содержится русским правительством в Самарканде» [605].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу