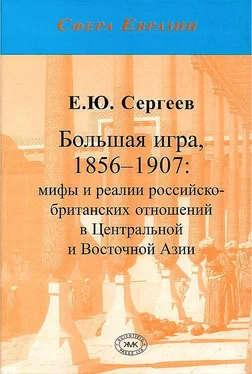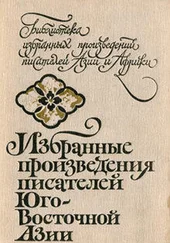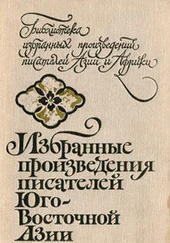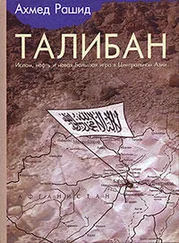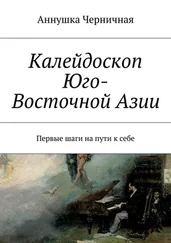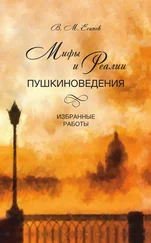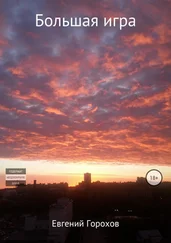С нашей точки зрения, дискуссии вокруг планов покорения русскими Индостана в конце 1850-х — начале 1860-х гг. как раз и свидетельствовали о начале Большой Игры в Азии. Кроме того, мы убеждены, что в русско-британском соревновании ставки были вполне реальными, а не воображаемыми. Хотя весомую лепту в стимулировании Большой Игры внесли необоснованные страхи и взаимные ложные представления, обе державы — Россия и Великобритания — отнюдь не имитировали ожесточенную борьбу за лидерство в руководстве традиционной Азией на ее пути к модернизации. Неслучайно именно тогда Петербург направил в ключевые регионы Игры — Хиву, Бухару, Персию, Восточный Туркестан и Маньчжурию — несколько дипломатических миссий с разведывательными функциями. Главам этих миссий предписывалось выяснить на месте реальную расстановку внутренних сил, перед тем как отдать приказ о покорении азиатских стран и народов.
Политические миссии царского правительства в государства Азии
Несмотря на то, что к середине XIX в. в распоряжении русских имелись сведения о соседях на Востоке, полученные в результате посольств и научных экспедиций, через торговцев, а также от агентов-лазутчиков, оценка текущей ситуации в Центральной Азии серьезно затруднялась внутренней политической нестабильностью, обусловленной столкновениями между этно-конфессиональными группами и представителями различных хозяйственных укладов, к примеру, кочевниками и земледельцами. Царское правительство также испытывало нехватку данных об особенностях географического положения и природно-ресурсном потенциале этих стран. Важно было определить перспективы налаживания дружественных отношений с их правителями, чтобы предупредить появление англичан при дворах восточных владык и укрепить юго-восточные рубежи империи [280]. Наконец, в известной мере миссии стали ответом на обращения некоторых военных администраторов к царю и министрам с предупреждением о «коварных замыслах» британцев, как это сделал начальник Аральской флотилии капитан 1 ранга (позднее контр-адмирал) А.И. Бутаков: «Итак, — сообщал он в рапорте, датированным 1859 г., — решаясь на что-нибудь в бассейне Аму[дарьи], нам надобно ждать деятельного отпора со стороны Англии, преимущественно косвенного, то есть происков, подкупов против нас, снабжения оружием, денежных пособий и т. п.; вероятно, также отчасти прямого: присылкой к неприятелям нашим офицеров, артиллерии, инженеров и т. п. [281]»
Отдельно следует остановиться на экономических мотивах российских посольств. Так, по данным коммерческой статистики, на протяжении 1850-х гг. ежегодный дефицит России в торговле с Хивой (или Хорезмским государством согласно официальному самоназванию) достигал 100 тыс. руб. серебром, а Бухарой — 300 тыс. руб. [282]Указанные данные стоит дополнить оценками российского торгового оборота с Азией, сделанными британскими экономистами в 1860 г. Так, общий объем экспорта России составил 1 млн. 786 тыс. 135 фунтов, или около 18 млн. руб., включая долю Китая приближавшуюся к 50 % (864 тыс. 946 фунтов), а импорта — 3 млн. 99 тыс. 658 фунтов, или около 30 млн. руб., из которых на Цинскую империю приходилось более 30 % (1 млн. 121 тыс. 155 фунтов) [283]. Значение экономического фактора было раскрыто в аналитической записке одного из высокопоставленных чиновников на имя царя от 15 декабря 1859 г.: «Есть намеки, что наше влияние будет состоять в противодействии англичанам; не думаю, чтобы под выражением «противодействие англичанам» можно было бы предполагать вооруженное противодействие, ибо невероятно, чтобы силы Англии и России встретились в пустынях Средней Азии или на окраинах настоящих азиатских владений Англии. Если же допустить возможность подобного события, то, мне кажется, надлежит вести дела наши в Средней Азии так, чтобы избегать всякого вооруженного столкновения с Англией в предвидении невыгодного исхода для нас от подобного столкновения. Далее под словом «противодействие англичанам» можно подразумевать только противодействие торговое. Но торговля со Средней Азией теперь для нас убыточна, и вряд ли настанет надобность затрачивать огромные суммы теперь же, чтобы в будущем ожидать гадательных выгод».
Характерно, что Александр II согласился с общими выводами автора записки, сделав пометку на полях: «Много есть справедливого» [284].
Прибытие специальных посольств из Хивы и Бухары в Санкт-Петербург для участия в коронации нового императора предоставило царскому правительству удобную возможность поставить вопрос о направлении ответных дипломатических миссий ко дворам соответственно хана Саида Мохамеда из узбекской династии Кунград и эмира Насруллы из аналогичной по этническому происхождению династии Мангыт. Их главой был назначен хорошо известный читателю Н.П. Игнатьев. О значении, которое Александр II и Горчаков придавали этим посольствам говорил тот факт, что эскорт российского представителя включал 83 человека, хотя лорд Уодхауз, глава британской дипломатической миссии в России, очевидно, ошибочно, называл цифру в 300 чиновников, офицеров, казаков и обслуживающего персонала [285].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу